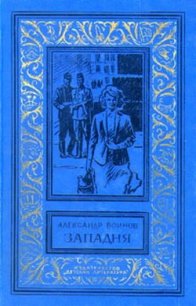Шибуми - "Треваньян" (бесплатная регистрация книга txt) 📗
Три раза в течение этих семидесяти двух часов терпение людей, допрашивавших его, лопалось, и они позволяли сержанту Военной полиции продолжать допрос другим, более изощренным способом, применяя последнее имевшееся в его арсенале изобретение. Он входил в камеру с девятидюймовой брезентовой трубкой, наполненной железными опилками. Действие этого орудия было ужасно. Оно редко ранило поверхность кожи, зато ломало кости и разрывало внутренние ткани.
Человек цивилизованный, не в силах вынести подобного зрелища, майор Даймонд во время этих избиений удалялся из помещения, где происходил допрос, не желая присутствовать при пытках, которые были следствием его собственных распоряжений. “Врач” оставался; ему любопытно было проверить, какой эффект производит боль, причиненная человеку, накачанному наркотиками.
В сознании Николая три периода истязаний запечатлелись по-разному. От первого в памяти у него не осталось ничего. Если бы не распухший, залитый багровым синяком правый глаз и не исчезнувший зуб, дыра на месте которого сочилась солоноватым привкусом крови, можно было бы подумать, что в действительности вообще ничего не происходило. Второе избиение оказалось невероятно мучительно и болезненно. Комбинированное воздействие наркотиков на его организм дало ошеломляющий результат: восприимчивость Николая обострилась и все ощущения стали необыкновенно яркими и сильными. Кожа его приобрела такую чувствительность, что даже прикосновение к ней одежды причиняло боль, а воздух, который он вдыхал, обжигал ноздри. В таком состоянии обостренного осязания Николай испытывал непередаваемые муки. Он жаждал потерять сознание, однако талант и искусство сержанта не давали ему ни на секунду погрузиться в блаженную пустоту небытия.
В третий раз Николай совсем не чувствовал боли, но это оказалось еще страшнее. Совершенно ясно и отчетливо – хотя в самой этой ясности было нечто странное, ненормальное – он понимал, что подвергается истязаниям, и в то же время наблюдал за происходящим со стороны. Он снова был одновременно и актером и зрителем. Он ничего не чувствовал: наркотики словно замкнули электрические цепи ощущений, проходящие по его телу, и нервные окончания атрофировались, потеряли восприимчивость к внешним раздражителям. Весь ужас состоял в том, что он слышал удары так, точно тело его было начинено мощными микрофонами, многократно усиливающими звук.Он слышал глухой треск рвущихся тканей; слышал поскрипывание раздираемой в клочья кожи; слышал рассыпчатый хруст ломающихся костей; слышал яростное биение своей крови. В зеркальном отражении своего сознания он видел свою внешнюю невозмутимость, и в то же время его наполнял тихий, недвижный ужас. Он понимал, что в его способности слышать все это и в то же время абсолютно ничего не чувствовать есть что-то ненормальное, болезненное, а полное наркотическое безразличие к происходящему находится уже по ту сторону безумия.
Было мгновение, когда он, точно всплыв на поверхность, поднявшись из темных и смутных глубин своего существа к реальной действительности, обрел ненадолго способность мыслить разумно и заговорил с майором; Николай сказал ему, что он сын генерала Кисикавы и что они совершат непростительную ошибку, если не покончат с ним тут же, ибо, если он останется жить, им не уйти от него. Он бормотал невнятно; язык его разбух от наркотиков, а губы были рассечены побоями; но его мучители все равно не поняли бы его слов. Сам того не сознавая, Николай говорил по-французски.
Несколько раз за эти три дня допроса с него снимали наручники, стягивавшие за спиной его руки. Когда “врач” замечал, что пальцы Николая побелели от нарушения циркуляции крови, браслеты расстегивали и массировали пленнику кисти; затем их надевали опять. На всю жизнь на запястьях Николая сохранились четкие, хотя и побледневшие, следы шрамов.
На семьдесят третьем часу допроса Николай подписал показания, обвинявшие русских. Мозг его был до такой степени отуманен, что он расписался по-японски, поставив к тому же свою подпись посреди листа, хотя мучители и пытались направить его дрожащую руку вниз. Почерк его оказался настолько неразборчивым, что американцы вынуждены были в конце концов подделать его подпись. Без сомнения, они могли бы сделать это раньше.
Конечная судьба этого “признания” достойна упоминания как олицетворение грубой и неумелой работы американских разведывательных служб. Несколько месяцев спустя сотрудники “Сфинкса” решили, что настало подходящее время пригрозить своим русским аналогам и противникам, заставив их покорно склонить головы. Майор Даймонд лично принес этот документ полковнику Горбатову и, усевшись по другую сторону его стола, в молчании ожидал реакции полковника на это неопровержимое доказательство активности американской разведки.
Полковник с подчеркнутым безразличием полистал машинописные страницы, затем не спеша отцепил по очереди от каждого уха дужки очков в круглой железной оправе и долго тщательно протирал их между большим и указательным пальцами. Ложечкой он с хрустом раздавил в граненом стакане растаявший кусочек сахара, отпил большой глоток чая и снова опустил стакан на самую середину блюдца.
– Ну и что? – произнес он лениво. И это было все. Угрожающий жест был сделан и проигнорирован, никак не отразившись на скрытой деятельности двух держав в оккупированной Японии.
Последние часы допроса растворились для Николая в путаных, но тем не менее довольно приятных грезах. Его нервная система была так подорвана различными наркотиками, что почти бездействовала, а рассудок, отринув действительность, замкнулся в самом себе. Он точно дремал, покачиваясь на волнах смутных видений, далеких от реальности, и вскоре обнаружил, что прогуливается по берегам Каджикавы, а воздух вокруг него наполнен порхающими лепестками цветущих вишен. Рядом с ним, но на некотором расстоянии от него шла юная девушка. Хотя Николай никогда не встречал ее, он знал, что это дочь генерала Кисикавы, Девушка рассказывала ему, как в один прекрасный день она выйдет замуж и у нее родится сын. Как бы между делом, девушка упомянула, что и она, и ее сын погибнут – заживо сгорят во время пожара при бомбардировке Токио. Сказав об этом, она – совершенно логично, как показалось Николаю, – превратилась в Марико. Николай рад был снова увидеть возлюбленную, и они начали тренировочную партию в го; у нее вместо камней были черные лепестки вишен, а у него – белые. Затем Николай сам стал одним из камней и, стоя на доске, в своей крохотной клеточке, оглядывал камни противника, ряды которых становились все гуще, перекрывая все проходы. Он попытался создать защитные “глаза”, но все они оказывались ложными, и тогда он побежал; он мчался по желтой поверхности доски все быстрее и быстрее, и черные линии сливались за ним в одну расплывчатую полосу, пока наконец он не добежал до края доски и не сорвался в густую непроглядную тьму, колыхавшуюся в его камере…..где он и открыл глаза.
Стены, полностью лишенные окон, недавно выкрасили в серый цвет. Лампочка под потолком была такой яркой, что Николаю пришлось прищуриться.
В. этой камере, в одиночном заключении, он провел три года.
Переход от ужасов допроса к долгим годам одинокого существования не был резким. Поначалу ежедневно, затем все реже Николая посещал тот самый нервный, растерянный, постоянно, казалось, чем-то встревоженный японский доктор, который засвидетельствовал смерть генерала. Все лечение состояло исключительно в профилактических повязках, без каких-либо попыток со стороны врача зашить раны или наложить гипс на сломанные кости и хрящи. Во время каждого визита доктор то и дело покачивал головой, со свистом втягивал воздух через стиснутые зубы и что-то бормотал себе под нос, точно не одобряя своего собственного участия в этой вакханалии насилия и жестокости.
Японским охранникам приказано было обслуживать заключенного в полном молчании, однако в первые дни им пришлось инструктировать Николая, объясняя ему основные правила распорядка дня. Разговаривая с ним, они употребляли грубые слова, речь их звучала резко, отрывисто, но это не было проявлением их личной к нему антипатии, а только указанием на глубокую социальную пропасть, пролегавшую между пленником и его тюремщиками. Как только узник усвоил правила тюремного поведения, они прекратили с ним всякие разговоры, и большую часть трехлетнего заключения Николай не слышал иного человеческого голоса, кроме своего собственного, если не считать регулярно повторявшихся каждые шесть месяцев получасовых визитов младшего тюремного служащего, ответственного за социальное и психическое благополучие заключенных.