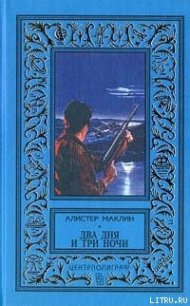Когда бьет восемь склянок - Маклин Алистер (мир бесплатных книг TXT) 📗
На рукаве у него было четыре золотых нашивки — значит, это был капитан. Капитан в радиорубке. Приходилось изредка видеть капитанов в радиорубке, но за пультом — никогда. Он сидел сгорбившись, склонив голову набок, опираясь затылком на китель, свисающий с крючка, ввинченного в переборку, а щекой — о стенку рубки. Трупное окоченение удерживало его в этой позе, но раньше, когда оно еще не наступило, он должен был упасть на пол или сползти вперед, на стол.
Не было никаких внешних признаков насилия, но поскольку было бы явной натяжкой предполагать, что он умер естественной смертью, что это от нее он пытался защититься своим «Миротворцем», я решил присмотреться внимательнее. Попробовал сдвинуть тело с кресла, но оно не поддавалось. Я потянул сильнее — послышался треск рвущейся материи, тело неожиданно распрямилось и упало на стол левым боком, а правая рука с зажатым в ней револьвером описала в воздухе дугу. Теперь я узнал, как он умер, — и почему не упал до сих пор. Он был убит оружием, которое пронзило позвоночник, и рукоять этого оружия зацепилась за карман кителя, висевшего на переборке, и удерживало тело.
По роду своей деятельности мне часто приходилось наблюдать людей, расставшихся с жизнью не по своей воле, но я впервые видел человека, убитого стамеской. Плотницкой стамеской с лезвием полудюймовой ширины, с виду обычной во всех отношениях, если не считать того, что на ее деревянную ручку была натянута рубчатая резиновая велосипедная рукоятка — на такой рукоятке невозможно обнаружить отпечатки пальцев. Лезвие вошло не меньше чем на четыре дюйма, н даже если оно было заточено как бритва, все же нужно было обладать немалой силой, чтобы сделать это. Я попробовал вытащить стамеску, но не смог. Так часто бывает и с ножами: кости или хрящи, разрушенные режущим инструментом, смыкаются вокруг стального лезвия, когда пытаешься вытащить его. Я не стал пытаться еще раз. Вполне возможно, убийца сам пробовал сделать это, но потерпел неудачу. Вряд ли он нарочно хотел оставить эту маленькую занозу. Может быть, ему помешали. Или у него имеется солидный запас полудюймовых стамесок, и он может себе позволить оставить часть из них в чьей-нибудь спине. Во всяком случае, мне она была не нужна. У меня было собственное оружие. Не стамеска, нет — нож. Я достал его из пластиковых ножен, пришитых к подкладке моей куртки возле самой шеи. Он не слишком внушителен с виду: четырехдюймовая рукоять и обоюдоострое трехдюймовое лезвие. Но это маленькое лезвие может с легкостью перерубить толстый манильский трос, а его острие — острие ланцета. Я посмотрел на нож, потом на внутреннюю дверь за пультом, которая вела в каюту радиста, достал из нагрудного кармана фонарик размером с авторучку, подошел к наружной двери, выключил верхний свет и замер в ожидании.
Как долго я стоял, не могу определить. Может, две минуты, а может и все пять. Чего я жду, я и сам не знал. Я говорил себе, что должен подождать, пока глаза привыкнут к полной темноте в рубке, но знал, что это неправда. Может быть, я ждал, что услышу какой-нибудь шум, еле различимый отголосок звука, может, ждал, что произойдет что-нибудь — все равно что. А возможно, я просто боялся открыть эту дверь в каюту. Боялся за себя? Не знаю. Не уверен. Возможно, я боялся того, что найду за этой дверью. Я переложил нож в левую руку — я не левша, но кое в чем одинаково хорошо управляюсь обеими руками, — и медленно обхватил пальцами ручку внутренней двери.
Мне потребовалось целых двадцать секунд, чтобы чуть-чуть приоткрыть дверь — настолько, чтобы протиснуться в щель. На последнем дюйме проклятые петли скрипнули. Это был тихий звук, который при нормальных условиях не услышишь с расстояния в два ярда, но для моих натянутых нервов он был подобен залпу шестидюймовок боевого корабля. Я окаменел как монумент. Слушая учащенные удары собственного сердца, я изо всех сил пытался заставить его утихомириться.
Если там внутри и был некто, желающий ослепить меня лучом фонаря и пристрелить, или проткнуть ножом, или проделать эту забавную шутку со стамеской, то времени у него было больше чем достаточно. Хватит. Можно позволить себе вдохнуть немного кислорода и проникнуть сквозь щель. Фонарик я держал на отлете в вытянутой правой руке. Тот, кто собирается убить человека с включенным фонариком, целится в точку непосредственно возле источника света, потому что обычно фонарь держат прямо перед собой. "Поступать так крайне опрометчиво, — объяснил мне много лет назад коллега, у которого извлекли пулю из верхней доли левого легкого. Поэтому, держа фонарь как можно дальше от корпуса, надеясь только на то, что реакция этого некто там, в каюте, хуже моей, я шагнул вперед и зажег фонарь.
Да, кое-кто был в каюте, но я ничего не узнал о его реакции. И ни о чем другом. Он не шелохнулся. Лежал лицом вниз с тем совершенно неподвижным видом, какой приносит лишь смерть. Я быстро обшарил каюту лучом света не толще карандаша. Мертвец был в одиночестве. Так же, как в радиорубке, здесь не было следов борьбы.
Не нужно было прикасаться к телу, чтобы определить причину смерти. Крови, что вытекла из полудюймовой раны на спине, было не больше чайной ложечки. Ее и не могло быть больше: когда позвоночник протыкается столь умело, сердце останавливается почти мгновенно. Небольшое внутреннее кровотечение и все. Занавески были задернуты. Я исследовал каждый фут палубы, и переборок и мебели при помощи фонаря. Не знаю, что я рассчитывал обнаружить. Ничего ровным счетом. Я вышел, закрыл за собой дверь и обыскал радиорубку с тем же результатом. Больше здесь делать было нечего, я нашел все, что хотел найти — все, что хотел найти меньше всего ни свете. Не было необходимости смотреть на лица мертвецов. Я знал эти лица так же хорошо, как и то, что каждое утро смотрит на меня из зеркальца для бритья. Семь дней назад они обедали со мной и нашим шефом в Лондоне, и они были уверены и спокойны, как только могут быть спокойны люди их профессии — даже когда жизнь поворачивается к ним светлой стороной, привычная осторожность проглядывает сквозь внешний покой, потому что настоящий покои не для них. Я не сомневаюсь, что они и на этот раз были уверены и осторожны, но недостаточно осторожны, и теперь они успокоились навеки. То, что с ними произошло, непременно случается с людьми нашей профессии и однажды случится и со мной. Не имеет значения, насколько ты силен и бесстрашен, рано или поздно встретишь кого-то умнее, сильнее и бесстрашнее тебя. И этот кто-то будет держать в руке полудюймовую стамеску, невероятно трудные годы твоих побед, успехов, достижений превратятся в ничто, потому что ты и не заметишь, как он придет.
И я послал их на смерть. Не намеренно, не сознательно, но последнее слово было за мной. Это были моя идея, мое творение, только мое, но я опроверг все доводы и уговорил нашего недоверчивого и весьма скептичного шефа, я добился, если и не энтузиазма, то хотя бы неохотного согласия. И я сказал этим двоим — Бейкеру и Дельмонту, — что, если они будут играть мою игру, ничто им не угрожает, и они поверили мне слепо, и играли мою игру, и вот они лежат мертвые передо мной . Никаких сомнений, джентльмены, положитесь на меня, только не забудьте предварительно составить завещание...
Больше здесь делать было нечего. Я послал двух человек на смерть, и этого уже не переменить. Пора уходить.
Я открывал наружную дверь так, как вы открывали бы дверь в подвал, зная, что он битком набит кобрами и тарантулами. Так, как вы открывали бы эту дверь, потому что я открыл бы ее не задумываясь, если бы знал, что кобры и тарантулы — единственные обитатели этого корабля. Как безопасны и добродушны эти маленькие гады по сравнению с теми представителями homo sapiens, которые разгуливали по палубе сухогруза «Нантсвилл» этой ночью.
Когда дверь открылась полностью, я еще долго стоял на пороге. Долго стоял, не шевеля ни единым мускулом, почти не дыша; когда стоишь вот так, кажется, что за минуту проходит полжизни. Единственное, что жило во мне, — это уши. Я все стоял и слушал. Слышно было, как бьются волны о борт корабля, время от времени — низкое металлическое громыхание, когда «Нантсвилл» отрабатывал машиной против ветра на якоре, завывание ночного ветра, раз донесся хриплый одинокий вскрик кроншнепа. Голоса безлюдья, безопасности, голоса ночи и природы. Не те голоса, что я пытался обнаружить. Эти были просто частью ночной тишины. А чужих голосов, голосов тревожных, угрожающих, опасных не было. Ни звука дыхания, ни осторожных шагов на палубе, ни шороха одежды — ничего. Если кто и караулил меня здесь, то он обладал терпением и осторожностью духа, а я не боялся духов в эту ночь, я боялся человека — человека с ножом, револьвером или со стамеской в руках. Без единого звука перешагнул я через порог. Мне не доводилось спускаться ночью по Ориноко в открытом каноэ, никогда тридцатифутовая анаконда не бросалась на меня с дерева, чтобы задушить своими кольцами, тем не менее я с легкостью могу описать, какое при этом возникает ощущение, Поистине звериная энергия и дикая свирепость пары огромных рук, охвативших мою шею, были ужасающи.