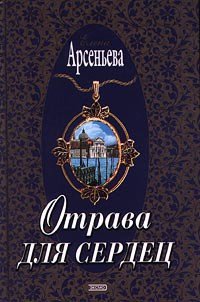На все четыре стороны - Арсеньева Елена (книга регистрации TXT) 📗
– Да у вас настоящая древность! Судя по цвету бумаги, начало прошлого века?
– Двадцатые годы, мне кажется, – уточнила Алена. – Определенно сказать не могу – нет титульного листа.
– Это, наверное, мемуары?
– Совершенно верно.
– Литература такого рода всегда в цене, – задумчиво сказал козлобородый. – Даже на русском языке. В Париже ведь много русских… А вы не желаете продать вашу книгу?
– Как так – продать? – растерялась Алена. – Зачем? Кому? Вам?
– Не мне, – покачал он головой. – Хотя я и занимаюсь антиквариатом и даже имею магазин вон там, на рю Прованс, угол рю Лепелетье, но я специализируюсь на старинных картинах, а также гравюрах и рисунках. Однако у меня есть приятель, магазин которого называется «Les antiquites orientales» – «Восточные древности», ну, и он довольно часто выставляет там антикварные книги.
– Я не совсем понимаю, почему Россия вдруг сделалась таким уж востоком, – сухо заметила Алена. – В смысле географическом? Или для французов она до сих пор дикая Азия?
– Ради бога, извините, – пробормотал козлобородый. – Я вовсе не хотел задеть ваши патриотические чувства. Это просто ужасно, до чего обидчивы русские и вообще славяне! Я знавал одну обидчивую даму… она была полька…
– И красавица? – не удержалась от реплики Алена.
– Все еще да, хотя ей уже… м-м… хотя ее первая молодость уже далеко позади, скажем так, – изысканно выразился козлобородый, но у нашей героини, первая молодость которой тоже была уже позади, немедленно испортилось настроение. Она ненавидела выражение «первая молодость», потому что оно напоминало ей о знаменитой булгаковской осетрине, которая была второй свежести, а не первой, единственной. Может быть, тут сыграло роль уязвленное самолюбие: ведь некто, разбивший ей сердце, был молодости именно первой, сияющей и сверкающей, а может быть, из-за избыточной мнительности, которой начинают страдать все без исключения красавицы, перешагнувшие определенный возрастной рубеж. Так или иначе, Алена мигом увяла, перестала улыбаться и играть глазами, слушать продолжение про обидчивую польку не пожелала, а просто сообщила, что книжку продавать не собирается, поскольку она библиотечная, извинилась, мол, очень спешит, и, бросив козлобородому торопливое: «Au revoir!» – выскочила из магазина, начисто забыв, что собиралась посмотреть также карнавальные костюмы и маски.
«Да ладно, потом!» – подумала она, уже входя в подъезд Марининого дома, но немедленно забыла о маскарадной экипировке опять… И, как выяснится впоследствии, правильно сделала, потому что никакой карнавальный костюм ей не понадобится. Так уж было предопределено!
Еще она забыла проверить, все ли листочки пересняла, и вспомнила об этом только дома. Нет, слава богу, ничего не пропустила, ни одного разворота, правда, один из них оказался перекрыт закладкой, а Алена этого не заметила, поэтому посреди текста образовался белый прямоугольник с сердечком в центре и столбиком цифр, в оригинале бледно-лиловыми, а теперь ставших черными и очень четкими. В центр сердечка попало слово «бросил».
Смешно! Кто кого? Некий И. некую А.? Ну уж нет, это она его бросила, она, она, она! Алена открыла книгу и нашла эту страницу. Оказалось, что какой-то врач новочеркасского госпиталя не просто бросил своих раненых без присмотра, но и выдал их на растерзание красным. Алена от руки восстановила текст в своей копии, а потом настало время идти гулять с Лизочкой.
Из воспоминаний Зои Колчинской
Времени было три часа ночи – я как раз незадолго до этого слышала, как били часы на старой башне… Она стояла над Свией, но удары колокола разносились в ночной тиши через весь город, даже до тюрьмы достигали, хотя услышать их можно было только таким настороженным слухом, какой был у меня тогда. И вот лишь только стих последний глухой удар, как я услышала эти шаги, возню в коридоре, и также женский плач, жалобный такой плач, ну просто детский. Вот, подумала, уже и детей начали хватать!
Шаги остановились у нашей двери. Я едва успела откатиться от порога и вскочить на свои нары, вернее, на их краешек (спала я рядом с одной из воровок, с самого краю нар), как загремел засов, дверь открылась, из коридора легла полоса света. Надо сказать, что одним из немногих электрифицированных зданий в Свийске была именно тюрьма, и первое, что сделали большевики, взяв город, это восстановили работу электростанции, поэтому и днем, и ночью в коридорах тюрьмы горел свет, а в камерах его, слава богу, на ночь выключали, может быть, экономили мазут или солярку, или на чем там работал электрический движок! Так вот в полосе света я увидела две фигуры охранников, которые, зажимая под мышками винтовки, волокли в камеру какую-то женщину. Она молчала, лишь, изредка громко всхлипывая, билась между ними, пытаясь вырваться, а они, тоже молча, силились ее удержать и перетащить через порог. Какое-то время длилась эта борьба, потом, конечно, охранники заставили пленницу перешагнуть порог, толкнули, захлопнули дверь, заложили ее засовом и ушли. И все это – не проронив ни слова. Но за те мгновения, пока женщина еще билась на пороге и была освещена, я успела увидеть ее – и до глубины души поразилась странности ее облика!
Она была босиком и одета в смятый розовый шелковый пеньюар. Волосы, которые сначала показались мне черными, были распущены. Поверх пеньюара напялена крестьянская безрукавка овчиной внутрь, крытая черным сатином. Поскольку я потом несколько дней носила эту безрукавку, я ее очень хорошо запомнила. Так же, как запах странных духов, которые источала овчина… На самом деле овчины всегда пахнут кисло и довольно противно, а эта хранила запах духов, которыми ее некогда полили, вдобавок очень щедро. Вид, словом, у новой постоялицы нашей камеры был более чем странный!
Но вот ее втолкнули в дверь, прогремели засовы, воцарилась темнота и тишина.
Какие-то мгновения я ничего не видела и не слышала. Женщина стояла, тоже ничего не видя со свету, очень тихо, почти не дыша. Потом из ее горла вырвался всхлип, затем еще один, еще… и она заплакала, да так жалобно и горько, что если бы я не видела только что ее зрелой, стройной и статной фигуры, я могла бы сказать, что плачет ребенок. Чувствовалось, что бурные рыдания рвались наружу из ее груди, но она сдерживалась, словно была брошена в клетку к неведомому спящему чудовищу и боялась разбудить и обозлить его своими стенаниями.
Тем временем глаза мои привыкли к темноте. Вдобавок на улице сбоку от нашего окна стоял фонарь, который освещал тюремный двор и давал какое-то количество света в камеру. Обычно этот свет мешал мне спать, но сейчас я радовалась ему, потому что он освещал странную женщину и позволял видеть то, что она делает.
Хотя, честно говоря, ничего такого особенного она не делала: просто стояла, всхлипывала и вглядывалась в темноту, пытаясь понять, куда попала.
Наша камера продолжала спать тяжелым, крепким, каменным сном. Одна я бодрствовала, но лежала тихо, почему-то даже задерживала дыхание.
Тем временем женщина сделала несколько осторожных шагов по камере. Легкий шелест сопровождал каждое ее движение – это шелестел дорогой шелк пеньюара. Я невольно улыбнулась – давным-давно не слышала таких мирных, таких женских звуков! Новая обитательница нашего узилища тихонько продвигалась между нар, и я поняла, что она выискивает место, где можно прилечь. Но камера была переполнена, и мы спали на нарах по двое. Единственное, повторяю, свободное место было рядом с убийцей тирана-мужа. Другие женщины как-то все разбились по парам, ей пары среди нашей сестры не нашлось, ну а мужчины до смерти ее боялись, оттого предпочитали тесниться по трое, только бы не оказаться вместе с ней. Вдобавок от нее шел какой-то невыносимый, почти звериный дух, и даже в том спертом воздухе, который царил в месте нашего заточения, он был отвратителен. И вот я увидела, как новая обитательница камеры в поисках свободного места направляется прямо к этим нарам!