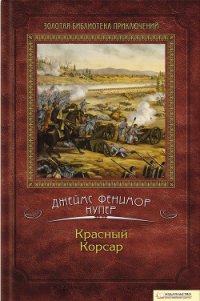Красный гаолян - Янь Мо (полная версия книги .TXT) 📗
Цао Второй поднял гонг — дон-н-н-н! — звук вышел каким-то надтреснутым. Дедушка присел у переднего конца гроба — это место было самым опасным, самым важным и самым ответственным. Поскольку передний конец гроба, похожий на нос корабля, очень сильно задирался, то дедушка не мог выпрямить спину, и грубая верёвка врезалась в шею и плечи. Он ещё и встать-то не успел, а уже почувствовал всю тяжесть гроба.
Цао Второй трижды ударил в гонг, а потом заорал что есть мочи:
— Встаём!
Дедушка услышал три удара гонга, задержал дыхание, потом всю силу сосредоточил в коленях, а после команды Цао Второго, словно в тумане, сделал рывок, высвобождая эту силу. Дедушка представлял, что гроб с телом старого ханьлиньского академика уже оторвался от земли и плывёт, словно пароход, в клубах дыма от благовоний, однако фантазии тут же разбились об ощущение, что его зад резко прижали к квадратной керамической плитке на полу, и от резкой боли в хребте.
Цао Второй чуть было не упал в обморок. Он видел, что огромный гроб не сдвинулся с места, как гигантское дерево, пустившее корни, а его ребята, словно стайка воробышков, с размаху врезавшихся в стекло, попадали на землю, их лица из бледно-красных стали от натуги чёрно-фиолетовыми, а потом серовато-белыми, как лишённый цвета мочевой пузырь свиньи. Он понял, что дело плохо. Спектакль не удался! Даже полный сил и энергии Юй Чжаньао сидит на полу с помертвевшим лицом, как женщина, потерявшая дитя. Стало ясно, что этот спектакль закончится полным провалом.
Дедушка словно бы услышал, как старый ханьлиньский академик насмехается над ним, лёжа в подвижной ртути. Весь род Ци — и покойник, и его живые потомки — умели лишь холодно усмехаться, поскольку обычный смех был им недоступен. Сильная обида, злость на эту махину и страх смерти, вызванный мучительной болью в позвоночнике, слились в единый мутный поток и с силой ударили в сердце.
— Братцы… — причитал Цао Второй. — Братцы… не ради меня… ради дунбэйского Гаоми… надо его вынести…
Цао укусил себя за подушечку среднего пальца, из раны, пульсируя, полилась чёрная кровь, и он пронзительно закричал:
— Братцы! За наш родной дунбэйский Гаоми!
Снова зазвучал гонг. Дедушка ощутил, что сердце его болит, будто треснуло пополам, а колотушка наносит удары не по выпуклой части гонга, а прямо по его сердцу, и по сердцу каждого из носильщиков.
В этот раз дедушка закрыл глаза и бешено рванул вверх, словно бы собирался расшибить себе голову и покончить самоубийством. Во всей этой суматохе с поднятием гроба Цао Второй заметил, что один из носильщиков по прозвищу Петушок молниеносно коснулся губами чаши с вином и сделал большой глоток. Гроб, качнувшись, оторвался от табуреток. В комнате повисла мёртвая тишина. Слышно было, как кости носильщиков трещат словно взрывающиеся петарды.
Дедушка не знал, что гроб приподнялся. Его лицо стало мертвенно-бледны, как у покойника, он чувствовал лишь, как петля из грубого полотна впилась в горло, сломав ключицу, а позвонки, изначально напоминавшие засахаренные ягоды боярышника, нанизанные на палочку, с такой силой прижались друг к другу, что превратились в упаковку прессованных хлопьев из этих ягод. [111] Он не мог распрямить спину, разочарование всего на долю секунды подорвало волю, и ноги потихоньку подогнулись, как расплавленное железо.
Из-за дедушкиной минутной слабости ртуть в гробу перетекла в переднюю часть, отчего край огромного гроба провис вниз, толкнув дедушку в согбенную спину. Чаша на крышке гроба тоже начала накреняться, прозрачная жидкость доходила до самой кромки, но не перелилась через край, а родственники покойника с надеждой смотрели на чашу.
Тут Цао Второй изо всех сил залепил дедушке пощёчину.
Дедушка помнил, что пощёчина отозвалась звоном в ушах, а поясница, ноги, плечи, шея утратили всяческую чувствительность, словно принадлежали кому-то другому. Перед глазами повисла тёмная пелена, на которую с шорохом брызгали золотистые искры.
Дедушка выпрямился. Гроб оторвался от земли на три с лишним чи, шестеро носильщиков поднырнули под днище, встали на карачки и подпёрли гроб своими спинами. Только тогда дедушка выдохнул, ощутив, как вместе с воздухом в горле и органах дыхания поднимается горячий поток…
Гроб пронесли через все семь ворот и поставили в большой паланкин ярко-синего цвета.
Дедушка скинул с себя белую петлю из грубой ткани, широко открыл рот, и изо рта и носа полетели стрелы багряно-красной крови…
Дедушка, которому уже приходилось преодолевать невозможное, в душе презирал членов «Железного братства», которые с беспомощным видом окружили бабушкин гроб, но не хотел ничего им говорить. Поэтому когда один из них сбегал за мокрыми тряпками, дедушка подошёл, собственными руками обвязал гроб, отобрал шестнадцать человек, расставил их по местам, дал команду, и гроб оторвался от земли. Когда бабушкин гроб погрузили на большой паланкин с тридцатью двумя шестами-ручками, дедушка снова вспомнил ту далёкую сцену из прошлого…
Похоронная процессия рода Ци, словно огромный белый дракон, поднималась в гору по дороге, вымощенной тёмной брусчаткой. Прохожие по сторонам дороги не смотрели ни на артистов на ходулях, ни на танцоров в масках львов, [112] но лишь с грустью взирали на пепельно-серые лица шестидесяти четырёх носильщиков: у некоторых из них шла носом кровь. В тот момент дедушку переставили в самый конец, он держал ручку, на которую приходилось наименьшая нагрузка. В груди у него всё горело, во рту чувствовался привкус крови, а твёрдая брусчатка разлеталась под ногами, словно капли свиного жира…
3
Отец, облачённый в траурную одежду, с шестом в руках стоял на высоком табурете лицом на юго-запад и, отбивая удары, громко кричал:
— Матушка! Матушка! Иди на юго-запад! По широкой дороге! На драгоценном чёлне да на быстром скакуне! У тебя достаточно денег на дорожные расходы! Матушка! Ты будешь спать в сладости, а от трудностей откупишься…
Распорядитель наставлял отца, что нужно эти слова повторить трижды, чтобы преисполненными глубоких чувств криками родных проводить душу покойного на юго-запад, в рай. Но отец прокричал лишь раз, и его горло сжалось от подступивших слёз. Он просто опирался на шест, но перестал бить им по земле, ещё раз с губ слетело слово «матушка», и его уже было не воротить — дрожащее, протяжное слово «матушка», словно тёмно-красная бабочка, крылья которой украшали симметричные золотистые пятна, полетело на юго-запад, то набирая высоту, то снова опускаясь. Там тянулись равнины, открытые всем ветрам, тревожное солнце на восьмой день четвёртого лунного месяца припекало так, что над рекой Мошуйхэ повис белый туман. Слово «матушка» не могло перелетать через эту обманчивую преграду, оно покрутилось немного туда-сюда, потом развернулось на восток. Хотя отец провожал бабушку в рай на юго-западе, бабушка не пожелала туда оправиться, а двинулась вдоль той самой насыпи, по которой когда-то шла, чтобы отнести бойцам из дедушкиного отряда лепёшки-кулачи. Она то и дело останавливалась, оборачивалась, призывно глядя золотистыми глазами на сына, моего отца. Если бы отец не опирался на длинный шест, то повалился бы головой вниз на землю. Чёрное Око с удивлением подошёл, сгрёб отца в охапку и снял с табурета. Прекрасная музыка, которую играли музыканты, зловоние, исходившее от толпы зевак, и пышность похоронных обрядов слились воедино, и это наваждение, словно тончайшая пластиковая плёнка, окутала тело и душу отца.
Двадцать дней назад дедушка повёл отца раскапывать могилу бабушки. День выдался не самым приятным для ласточек, низкое небо было затянуто двенадцатью тучами, похожими на рваную вату, и от них исходил запах тухлой рыбы. Над Мошуйхэ дул лёгкий ветер. Сгущалась тревога. Трупы собак, которых подорвали ручными гранатами во время войны людей с псами прошлой зимой, разлагались среди прибрежной травы. Ласточки, только что вернувшиеся с острова Хайнань, с ужасом летали над берегом. Жабы начали спариваться, за время долгой зимней спячки они потемнели и похудели, но теперь подпрыгивали, охваченные ярким пламенем страсти.