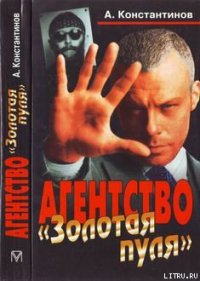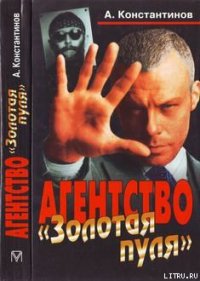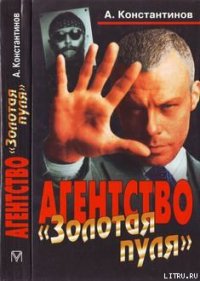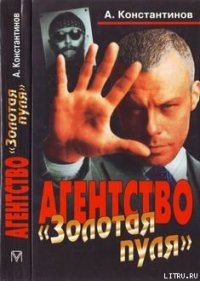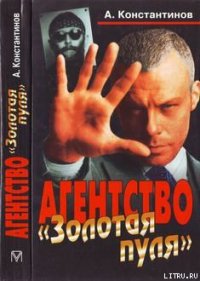Дело о дуэли на рассвете - Константинов Андрей Дмитриевич (читаемые книги читать txt) 📗
Володя опять помялся немного, откинул рукой волосы своей «артистической» прически и ответил:
— Встряхнуться надо. Совсем я что-то закис, старуха загрызла и это… творческий кризис у меня.
— Творческий?
— Творческий, — подтвердил Соболин. — Глубокий.
Творческий, да еще и глубокий — это, конечно, аргумент. Я решил проявить мужскую солидарность и дать Володе возможность встряхнуться. И взял. Знал бы, во что это выльется — ни за что!
Короче, мы прилетели в Екатеринбург, а там нас уже встречал местный организатор семинара Евгений Танненбаум. Он приехал на шикарном микроавтобусе «мазда», и мы покатили в районный городок N-ск. Ехать до N-ска предстояло около восьмидесяти километров, а потом еще двадцать до базы отдыха райкома ВЛКСМ. ВЛКСМ, конечно, давно уже нет, но база осталась. Кстати, ее и прихватизировали бывшие комсомольские вожаки. Теперь там оттягиваются новые русские: бандюганы и коммерсанты… то есть те же самые «комсомольцы». Это нам Танненбаум по дороге рассказал.
Евгений Кириллович («для друзей — просто Женя») был главным редактором «Вестника N-ска». Он производил впечатление жизнерадостного оптимиста, был лыс, как бильярдный шар, и говорил без умолку… В комфортабельном автобусе, по хорошей дороге, с музыкой и несмолкающим Женей Танненбаумом до N-ска доехали быстро. Смеркалось, синел снег, испятнанный заячьими следами, молчаливые стояли деревья. Красиво — безумно.
Весной девяносто шестого я уже проезжал по этому шоссе, но тогда красоты не замечал.
Мы миновали N-ск — маленький, уютно лежащий в сугробах городок, дальше поехали по укатанной грунтовке. Сумерки загустели, снег в свете фар искрился, вдоль дороги стояли мощные ели… Трепал языком Женя. Мне хотелось дать ему «в башню», так, чтобы его «заклинило». Но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями.
— Моя фамилия, — сказал Танненбаум, — в переводе с немецкого означает ель.
— Ельцин, значит? спросил Соболин.
— О! Борис Николаевич! Великий реформатор! Великий. Я перед ним преклоняюсь, — ответил Женя и продекламировал:
— О Tannenbaum! О Tannenbaum! Wie grun sind deine Blatter.
Сам же и перевел:
— О ель! Как зелены твои листья… то есть, конечно, иголки. Прекрасное, могучее дерево. Я, знаете ли, испытываю с ним некое родство. Чувствую его дремучую языческую лохматость.
— У вас не только родство, — сказала, разглядывая лысую танненбаумановскую голову, Аня, — у вас и внешнее сходство несомненное.
— Могучее дерево, могучее, — согласился Женя. — Устремленное ввысь.
Я подмигнул Лукошкиной и показал ей большой палец.
— Да, — продолжал Женя, — устремленное ввысь, как… э-э…
— Фаллос, — сказал я.
Жизнерадостно заржали Повзло и Соболин. «Фи!» — скривилась Лукошкина.
— Как фа?… — изумленно спросил Танненбаум. — Странно… я хотел сказать: как ракета.
— И я тоже. Фаллос. Так штатники называют свою новую ракету-носитель. На Венеру полетит. Фаллос — он всегда на Венеру.
— А-а, — уважительно произнес Женя, — я не знал… Фаллос.
Бывшая комсомольская база отдыха находилась на большой поляне посреди соснового леса. Посредине стояло двухэтажное строение в форме буквы "Т", поодаль были разбросаны отдельные домики, стилизованные под швейцарские шале. Светились окна, на стоянке сбились в стаю несколько автомобилей разной национальности и цены: от моей любимой отечественной «Нивы» до навороченной «тойоты-лэндкрузер».
— Уже собирается народ, — сказал, кивнув на машины, Танненбаум. — Коллеги-журналисты… акулы, так сказать, пера.
Мы тут, конечно, не столица… провинция.
Но есть очень острые перья. Очень острые.
Как… э-э…
Я уже собрался подсказать Танненбауму, на что похожи острые журналистские перья, но Лукошкина сделала мне страшную морду.
— …как шпаги, — закончил свою мысль Женя. Он — определенно — любил глубокие, небанальные метафоры. Острые, как… фаллос.
Нас с почетом разместили в шале. Однако наши коттеджи только снаружи были загранично-буржуазными. А вот внутри они отражали ностальгию нынешних хозяев по своей комсомольской молодости.
В прихожей меня встретил плакат: «Привет участникам комсомольско-молодежного слета!» В гостиной количество ностальгической атрибутики было вообще безмерным — на стенах висели шелковые и бархатные вымпелы: «Ударник X пятилетки», «Победитель соцсоревнования», «Лучшая комсомольско-молодежная бригада». На телевизоре «Панасоник» стоял небольшой бюст поэта Маяковского, а на журнальном столике лежали номера журнала «Молодой коммунист». На прикроватной тумбе в спальне — томик речей Леонида Ильича Брежнева. Даже с трогательной закладкой… Да, с юморком бывшие комсомольцы оказались.
Но в целом номер был весьма комфортабельный, в холодильнике даже напитки нашлись. В ассортименте от «Столичной» до «Мартеля».
Я только успел осмотреться, разложить вещи и выкурить сигарету, как пришел Танненбаум и объявил, что пора на ужин.
И что все местные коллеги горят от нетерпения, ожидая встречи со мной… Вот ведь дурак этот Женя, а слова сказал хорошие. Правильные сказал слова. Ну, насчет встречи со мной.
Я подмигнул бронзовому Маяковскому и, накинув на плечи куртку, пошел за Танненбаумом. На улице было чертовски хорошо… И подумалось, что лучше бы не ходить ни на какой ужин, а пойти к Лукошкиной в ее шале, выпить чуть-чуть «Мартеля» и…
— Вот мы и пришли, — сказал Женя Танненбаум.
— Ну, вы попали, — сказал Женя Танненбаум… Нет, это он потом сказал. А тогда он сказал:
— Вот мы и пришли.
В зале на стенах светились бра в виде канделябров, а на столах колыхались огоньки живых свечей. Акулы пера стояли парами, тройками или стайками. Когда мы вошли, к нам обернулись. Танненбаум громко и торжественно объявил:
— Коллеги! Прошу любить и жаловать — Андрей Серегин. Звезда, так сказать, криминальной журналистики.
Мне захотелось дать Жене в морду.
Вполне, кстати, нормальное желание. Но все-таки в морду я ему не дал, а только буркнул зло: аплодисментов, мол, не слышу. И Танненбаум, огорчившись безмерно, тут же и откликнулся:
— Поприветствуем нашего гостя аплодисментами!
И я до конца прочувствовал танненбаумовскую «дремучую языческую лохматость»… Раздались аплодисменты. Я посмотрел в ту сторону, откуда они прозвучали, и увидел Аню Лукошкину. «Ну, Анька, — подумал я, — вот вернемся в Питер, я тебе все припом…» Но до конца недодумал: Лукошкина была чудо как хороша. В очень простом, длинном, черном платье, с ниткой жемчуга на груди.
Потом начался ужин. Знакомство. Тосты. Упражнения в остроумии и красноречии. Больше всех, конечно, старался наш друг Ельц… тьфу! — Танненбаум. Это меня раздражало. Но еще больше раздражало то, что этот лысый пень все вился вокруг моего юриста. Я подозвал Колю Повзло и дал ему поручение.
— Легко, — сказал Коля. — Нокаутом в третьем раунде.
— Легко? — переспросил я. — Вы же в разных весовых категориях, Коля… Он килограммов на тридцать-сорок больше тебя весит.
— Ты, Обнорский, дилетант, — очень солидно сказал Коля. — Я же с депутатами ЗакСа и чиновниками из Смольного пью.
Этот аргумент показался мне убедительным. И, забегая вперед, скажу, что Коля с поставленной задачей справился. Геройски, нисколько не щадя себя.
Ужин потихоньку приобретал все более непринужденный характер. Господа журналисты вели себя раскованно. Начались танцы… стал затеваться поход в сауну смешанным коллективом. («Разнополым», — сказал Юрий Львович, немолодой главный редактор газеты «Скандалы и светская жизнь N-ска». Любознательный Повзло спросил у него: «А какой у вас тираж, коллега?» — «Шесть тысяч, коллега». — «Помилуйте, в N-ске все население — тридцать тысяч, — возразил Повзло. — Как же вам удается реализовать шесть тысяч?» — «Люди, — возразил Юрий Львович, — очень интересуются светской, знаете ли, жизнью…» Ошеломленный Коля сильно зауважал Юрия Львовича.)