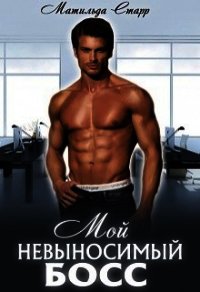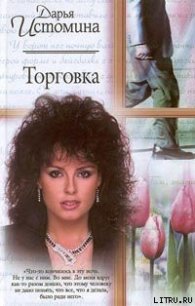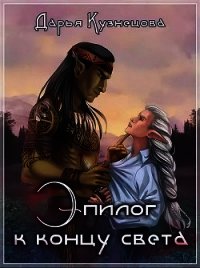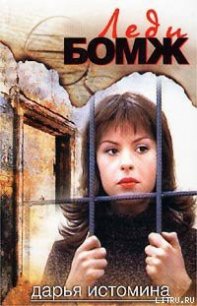Леди-босс - Истомина Дарья (прочитать книгу .txt) 📗
Я задохнулась от негодования: деваха явно подцепила какого-то парня и затащила сюда, чего я ее просила покуда не делать. Наш дом — наша крепость, и Михайлыч постоянно талдычил: «Никаких амуров, девки, без меня!..»
Я вошла в кухню.
Арина была в полной боевой готовности: напялила, как всегда без спросу, мой самый любимый домашний халат цвета гнилой вишни, чуть-чуть распахнув так, чтобы просматривалось тугое вымечко в черном развратно-кружевном лифе, — сидела за кухонным столиком.
Глаза ее сияли. Она смотрела в спину парню, который, посвистывая, положив поперек раковины доску, разделывал рыбу.
На парне были только выгоревшие до белесости короткие джинсовые шорты и растоптанные, бывшие когда-то белыми кроссовки без шнурков.
Спина была крепкая, с игрой мускулатуры, переливавшейся под отполированной солнцем кожей, широкие плечи его пятнали отметины солнечных ожогов, в общем, он был прокален, как глиняный горшок, который только что вынули из обжиговой печи.
— Что это за номер? — рявкнула я.
Парень обернулся, почесал нос тыльной стороной ладони и сказал:
— Здорово, Лизавета… А это вот тебе! Подарок из Ростова-папы… Ничего судачок? Лично наткнул… Еще утром в Дону плавал!
Тут-то я его узнала.
Зиновий Семеныч Щеколдин, по кличке Зюнька-Гантеля, сыночек Щеколдинихи, несостоявшийся супруг Ирки Гороховой, последняя гнусь и скотина, стоял передо мной собственной персоной!
Этого борова я хорошо запомнила еще с того дня, когда он подпоил меня в квартире судьи Щеколдиной, подбросил мне ее драгоценности, а потом вместе с Иркой разыграл этот подлый спектакль на следствии и в суде.
Он был моложе нас с Иркой года на три, и тогда у него была щекастая откормленная ряшка невинного младенца. Но людей не проведешь. Они знали ему цену. Передо мной всплыла картина суда, как он, верный сын Щеколдинихи, заученно твердил гнусную ложь, что я вторглась в их квартиру, обманом заставила открыть сокровищницу семейства Щеколдиных, дабы грабануть оную… И все скулил, жаловался: «Перед мамой я виноват… Маму мне жалко!» В том смысле виноват, что привел в дом воровку…
Он, конечно, здорово изменился за эти годы, ряха опала, молочный сосунок превратился в молодого мужчину, глаза его потеряли пуговичную бессмысленность, когда главным для него было только одно — тяпнуть, закусить и трахнуть! — что они и отражали, и смотрели теперь на меня почти растерянно, с какой-то неясной печалью и виноватостью. Но все это я разглядела только потом, а в первый миг моя ярость обрушилась не на него, а на эту кретинку, которая посмела открыть двери моего дома, моего убежища, моей крепости этому гаду. Я, задыхаясь, начала орать на нее.
Она залилась слезами.
— Вот всегда так… Всегда! Хочешь как лучше! Да что я вам, рабыня?!
Зюнька с силой воткнул ножик в доску, поморщился и сказал:
— Кончай эту оперу, Лиза… Пацана разбудишь! Тут я и заткнулась.
Просто поверить в такое было нельзя.
Но уже шлепали где-то по коридору босые ножки, на пороге, сонно морщась, встал Гришунька, в своей байковой ночной рубашонке, спросил:
— Мамочка, где мой горшок?
Я молчала, разглядывая его.. Он был какой-то квелый, с бледным, почти серым, заострившимся личиком. Его зачем-то совсем коротко остригли, отчего ушки казались большими. Ручки и ножки истончились, и он был похож на какой-то увядший росток, который пересадили из теплицы на неухоженную землю.
И глаза были перепуганные, наплаканные и какие-то повзрослевшие.
— Он хреново самолет перенес. И вообще с животиком что-то. Видно, съел не то. Я читал в справочнике… — пытался что-то объяснить Зюнька.
Но я его уже не слушала, подхватила Гришку на руки, ткнулась лицом ему в маковку и утащила в ванную. Усадила на горшок и села рядом, на пол, взяв его руки в свои.
Он сидел сгорбившись.
— Ну и где же ты был, Гришка? — Наверное, я спросила то, чего спрашивать не стоило.
Он отвернулся и, помолчав, сказал:
— Я не знаю… Мы ехали-ехали, потом плыли-плыли, потом летели-летели…
Скрипнула дверь, и в ванную протиснулась пуделишка. Она присела у порога и деловито сделала лужицу.
— Вот видишь, ты просил собачку. Теперь у тебя есть собачка, — сказала я.
— Я больше не хочу собачку… — Он наморщился и только тут бросился ко мне, крепко обнял за шею и прижался, шепча:
— Я буду слушаться… Только ты меня больше не отдавай!
От него пахло чужим. И я его мыла, усадив в джакузи, налив в воду пенящийся детский шампунь, дала ему выпить таблетки, немножко угля. Потом закутала в мой банный махровый халат, который он особенно любил, и отнесла в детскую. Варечка скулила и царапалась коготками, намереваясь взобраться на его кровать. И в конце концов я ее пожалела, уложила в его ногах. Щенок почти сразу заснул. И он тоже заснул почти сразу. Я долго еще не могла от него уйти, потому что он вцепился в мои руки сильно, почти до судороги, будто боялся, что я снова куда-то денусь.
Когда я вернулась в кухню, оскорбленной Арины уже не было. Только тут я разглядела стоявший у окна кожаный чемодан, детский яркий рюкзачок и пару новых игрушек для Гришки: надувной крокодил для пляжа, собранные в башню яркие кубики «Лего».
И не без удивления увидела, что Зюнька продолжает деловито готовить судака. Довольно умело переворачивает лопаткой на сковороде шкварчащие сочные куски с коричневой корочкой и посыпает их крошевом из синего южного лука и еще какой-то зелени. Он уже извлек из багажа чистую футболку с эмблемой «харлея-дэвидсона» на груди, видно, для приличия.
Он вел себя так, будто находится в собственном доме, и в этом было что-то от прежнего Щеколдина, который всегда считал, что если не весь мир, то как минимум наш город — это его епархия, где никто не смел ему возразить и где он творил все, что ему вздумается.
— Трескать будешь, Басаргина? — спросил он. — Учти, рыбка азовская, такие в нашем водохранилище вымерли… Чуешь, как пахнет?
Я была так ошеломлена, что с трудом понимала, что происходит. Я пережила две недели одиночества, Гришка снова со мной… Но что все это должно означать? Что за этим кроется? И что дальше? Какой-то их расчет, их выгода, их условия.
— Откуда вы взялись, Зюнька? — как можно спокойней спросила я.
— Круиз по Волге. Скатились вниз, потом по каналу до Ростова… Мутер хотела, чтобы я парня родичам показал. В Таганроге и Мариуполе Щеколдиных — не считано! Дядьки-тетки, даже одна прабабка есть, Федора Юхимовна… Трухлявенькая такая! Девяносто три года. Я ее и сам не видел никогда. В общем-то классно прокатились. Теплынь, на Волге пусто, как вымерло все. Корыто это, яхта, ходкое, только качало все время, укачивало мужичка. Он совсем раскис, ничего не ел. Ну а потом затемпературил… Ну куда мне с ним? Так что я его за шкирку и в Ростовский аэропорт…
Он все бубнил, как-то нехотя, через губу, явно недоговаривая, и вдруг сказал угрюмо:
— Может, нальешь капелюшечку? Со свиданьицем? Все-таки сколько не виделись?
Я молча ткнула пальцем в шкафчики.
Он оглядел коллекцию в «винном» отделении, буркнул: «Ни хрена себе батарея…» — выудил бутылку натурального «Порто», посмотрел на просвет, вышиб пробку.
Отхлебнул из горлышка.
— Ты ж не на скотном дворе, Зиновий. В приличном доме у приличной дамы. Привыкли вы там у себя из корыт лакать! Извольте вести себя пристойно…
Я отобрала бутылку, выставила на столик посуду, фужеры, усиленно изображала гостеприимную хозяйку, а в висках все билось горячо и смятенно — что дальше-то?
— А ты все такая же, Басаргина, — ухмыльнулся он. — Все тебе не так. Все по-своему гнешь.
Наверное, мне надо было бы поосторожничать, изобразить полную приязнь к нему, может, даже кокетнуть слегка, тем более что я всей кожей ощущала, как он посматривает на меня, хотя и как бы мельком, вскользь, не прилипая зрачками, но с тем удивлением, кое безошибочно свидетельствовало о том, что он сравнивает меня теперешнюю с той тощей дылдообразной особой, которую они с мамочкой отправили на отсидку. И если честно, мне было приятно это его обалдение.