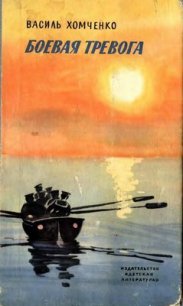При опознании — задержать - Хомченко Василий Фёдорович (полные книги TXT) 📗
— Рада, очень рада, — закивала хозяйка головой, действительно радуясь гостям. — Это вы из-за пожара приехали? Давно надо было, давно. А то вот он, — показала рукой на Богушевича, — никого под арест брать не хочет. Говорит, что не подожгли, а само загорелось, окурок кто-то нечаянно бросил будто бы… — Она разговорилась, и её не останавливали, делали вид, что внимательно, с интересом слушают и верят ей. — Я говорю, что это в отместку мне, что мужики мне мстят. Начали с конюшни, а потом и все поместье сожгут, а меня повесят. Все они — пугачевцы. — И стукнула костылём о пол.
— Могут, — согласился с ней Бываленко. — Мужики есть мужики. А скажите, пани, кроме мужиков знаете кого-нибудь, кого можно было бы подозревать в противозаконных действиях?
Старуха не сразу поняла, о чем её спрашивают. Затрясла головой, повязанной чёрным платком, ухватилась за костыль, подняла, подержала и не стукнула, тихо поставила на пол.
— А то нет? Все они хотят моей гибели.
— У вас же в поместье работники тихие, бога боятся, законы уважают. — Бываленко умолк, кинув быстрый взгляд на Бранта. — Эконом хорошо ведёт хозяйство… А скажите, мы его сегодня дождёмся?
— Приедет обязательно. Одарка, когда ему было велено приехать?
— А вечером, — ответила та, лишь на момент оторвав взгляд от Бранта. С той минуты, как он вошёл в залу, она не спускала с него своих красивых глаз.
— Приедет. Если бы все так заботились о хозяйстве, как мой Сергей Миронович! Только вот с мужиками он слишком добрый, как и этот вот пан, — укоризненно глянула она на Богушевича и сжала сухие, морщинистые губы. — Уж до чего добрый пан следователь. Ночью ходит по полю, конюха моего учит, что надо про пожар говорить…
— Неправда, пани Глинская, — резко прервал её Богушевич. — Выдумка это.
— Слышали? — удивилась она такому категорическому отклику, словно приглашала Бываленко и Бранта тоже удивиться. — Потому и не хотите найти поджигателей.
Богушевич встал и, не скрывая обиды и неприязни, вышел из залы. Он ещё успел услышать, как старая барыня сказала:
— Гордый какой! А вот я на него в окружной суд жалобу напишу.
В комнате он кинул в портфель свои вещи и поспешил из усадьбы на дорогу. Решил перехватить там Соколовского и предупредить о жандармах.
— Ах, если бы ты сегодня не приехал! — проговорил он вслух.
В имении делать ему больше было нечего. Все, что нужно, сделал. Постановление о прекращении дела напишет дома: виновные в умышленном поджоге отсутствуют, пожар произошёл из-за неосторожности кого-то из дворовых работников. Он бы и не возбуждал это дело, если бы не жалоба Глинской-Потапенко прокурору. По закону частная жалоба должна разбираться следователем.
Богушевич шёл лесом; было тихо, не слышалось птичьего пения, шума деревьев, словно природа прониклась его настроением и примолкла, чтобы дать ему возможность что-нибудь придумать. Но сколько ни думал, ничего определённого не решил, только все поглядывал в ту сторону, откуда ждал Соколовского.
Вечерело. Заходящее солнце притухло, покраснело. Богушевич сел на траву на обочине дороги. Трава осенняя, жёсткая, усыпанная кое-где занесёнными из леса листьями. Собрал в горсть несколько листков, пожухлых, сухих, поднёс к лицу. Пахло осенью, увяданием, смертью всего живого, что родило лето. Умирают растения тихо, без стона и вздоха, без протеста, словно понимая, что их смерть нужна для продления жизни других растений, довольствуясь отпущенным им сроком, и тем, что выполнили свой долг перед природой… Вот бы и люди так умирали, осознавая, что их смерть необходима для жизни других людей. А ведь есть же люди, что просят у бога смерти. Да и сам он не раз в тяжёлые минуты, когда непосильным бременем давила тоска, спокойно думал о смерти. Умереть, думал он тогда, это избавить себя от тех житейских бед, чёрных дней, неудач, унижений, которые сыплются на тебя и невыносимо отравляют жизнь. Когда было особенно горько, невольно вспоминался кто-нибудь из умерших знакомых. «Завидую тебе, брат, — думал он в отчаянии, — не знаешь ты ни страданий, ни боли, ни обид, не видишь противных тебе людей…»
Богушевич тряхнул головой, посмотрел вокруг, удивился, что им овладели такие мрачные мысли. Что это? Предчувствие беды, смерти? Чьей, чужой? А может, своей?.. Встал, пошёл по дороге, глядя на паутинку, которая, зацепившись за рукав, вилась за ним свободным концом. Шёл, шёл, а паутинка все его не покидала.
«Почему я не взял фотографию Сергея?» — пожалел он.
Увидел повозку, запряжённую парой лошадей. Ехала она в город, в ту сторону, откуда он ждал Соколовского. Видно, какой-то помещик спешил в Конотоп. Не доезжая шагов тридцать, кучер придержал лошадей, а поравнявшись с Богушевичем, остановился. На дрожках, действительно, сидел помещик из Лясовки, владелец винокурни, отставной майор. Узнав, что Богушевичу нужно в город, предложил:
— Садитесь, мигом домчу. Только к Гарбузенко сперва завернём, должок за ним. На ярмарку еду, двух коней хочу купить.
«Завтра же в Конотопе ярмарка, — вспомнил Богушевич, — народу съедется!..»
Залез в дрожки с надеждой, что встретит Соколовского по пути.
…А на другой день, ещё третьи петухи не пропели, Богушевич уже оказался в Конотопе. На ярмарке в то утро все было так, как описывал некогда Гоголь… Народу наехало — видимо-невидимо! На ярмарочной площади и примыкавших к ней улицах стояли возы с распряжёнными лошадьми и волами. На возах и под ними спали крестьяне, привёзшие на продажу кто что. Вон цыганская повозка с крытым верхом — на ней, прижавшись друг к другу, вповалку спят цыганята, а сам хозяин с хозяйкой — под ней на земле… Спит парубок рядом с коровой, опутанной за рога вожжами, а чтобы корова не убежала, другой конец вожжей привязан к его руке… Ударил в нос резкий запах вяленой рыбы — это приехали из Крыма чумаки… Двое бродяг, конечно, оба мертвецки пьяные, лежат чуть ли не на самой дороге, и по свежим следам колёс видно, что их и не пробовали будить, а объезжали стороной. Одним словом, всякого сброду собралось, как это водится на ярмарках… Припоминая описанную Гоголем конотопскую ярмарку, Богушевич стал искать и москаля-бородача, который обязательно должен был тут быть. И нашёл — тот спал на разостланном пустом мешке, в сапогах, красной в белый горошек косоворотке, жилетке и картузе.
Идти к Соколовскому было рано. Конечно же, там ещё не вставали. Однако пошёл.
Окно в доме было распахнуто настежь, и, видно, сквознячком выдуло наружу занавеску. Она свисала, как белый флаг капитуляции. Не заперта была и калитка. Богушевич нарочно громко лязгнул задвижкой, чтобы в доме услышали, что к ним кто-то идёт. Но никто не вышел. И не отозвался, когда он крикнул в распахнутое окно. Богушевич вошёл в сени — на внутренней двери висел замок.
«Где же они? — удивился и встревожился Богушевич. Вернулся к окну, отодвинул занавеску — в комнате все стояло на своих местах. — Неужели на ярмарку с утра пораньше ушли?» Значит, не знают, что им угрожает. Богушевич быстро вышел со двора и заторопился на ярмарочную площадь.
А к площади — или к майдану, как её здесь называют, — подъезжали все новые возы, люди ехали издалека всю ночь. Выбирали место, распрягали волов, стараясь не шуметь, чтобы не будить тех, кто спит.
К ярмарке готовился весь город. В лавках подбавляли товара, в шинках и корчмах наготовили про запас всякого питья и еды. Во всех уголках майдана стояли полные бочки с пивоварен Гернера. На подоконниках лавок поблёскивали штофы, полуштофы, бутылки и «мерзавчики» — попробуй, казак, удержись, не зайди…
На свободном участке в городском саду бродячие циркачи собрали из щитов огромный шатёр для представлений. Афиша, где о нем говорилось, красовалась на стене Иваненковой лавки, приглашая посмотреть на разных магов и женщину без костей. «С разрешения городского начальства, — обещала афиша, — перед почтённой публикой предстанет факир и шпагоглотатель Ахмет Дарыбаз-оглы. Он же перепилит женщину на две половины…»