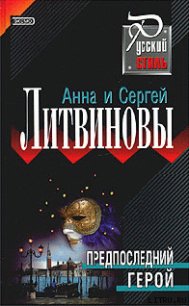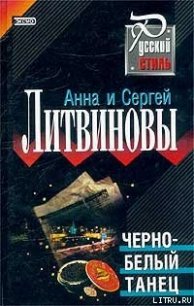Черно-белый танец - Литвиновы Анна и Сергей (лучшие книги без регистрации .txt) 📗
Вся группа вытаращилась на нее, как на чумную. Подруга Милка (она обожала Настину маму и даже тщетно пыталась копировать ее царственную походку) прошипела: «Ну ты дурында!...» А воспитательша, психологиня чертова, в тот же вечер заложила Настю маме.
Настя хорошо запомнила этот вечер.
Дедова «Волга», ушки-на-макушке шофер и маман в распахнутой шубке: слушает смущенный лепет воспитательницы и хмурится.
– Ты, наверное, так пошутила, да? – спросила мама по дороге домой.
Настя ссутулилась на заднем сиденье и промычала:
– Да-а...
– Тоже мне, Чарли Чаплин! – хохотнул шофер.
Шофер, дядя Илья Валентинов, работал у Капитоновых уже не один год и считал себя почти что членом семьи. Обычно Капитоновы не возражали. Но в тот раз Ирина Егоровна пресекла излишнюю фамильярность. Она грубо оборвала водителя:
– За дорогой следи! – и продолжала допытываться: – Или это не шутка?
Мама обернулась со своего переднего сиденья. В глазах ее сверкало искреннее недоумение. И досада из-за того, что не может влезть в голову дочери и прочесть ее мысли...
Настя молчала. Шофер притворялся, что наблюдает за движением.
– Значит, правда боишься, – подытожила мама. И удивленно спросила: – Но почему? Я тебя что, ставлю в угол? Запираю в чулане? Лишаю конфет? Или, – ее голос набирал обороты, – может быть, бью?
Отвечать было нечего. Мамуля действительно никогда ее и пальцем не тронула. И, разумеется, никаких темных чуланов или гороха в углу в семье не практиковалось. А с конфетами Настя даже перебарщивала – бывало, аллергия разыгрывалась.
Но все равно: маму она боялась. Боялась ее взгляда, сверкания двух синих льдинок. Ее округлых, гневно расправленных плеч. Ее голоса, хлещущего порой похуже любого ремня.
Настя рано поняла, что вносит в мамину жизнь сплошной хаос. Доставляет ей неудобства. Мама так молода, ее жизнь только набирает обороты, у нее карьера, и визиты, и приемы, и театры, и бассейн, и косметолог – а тут под ногами путается постоянный нарушитель покоя, малый ребенок. И с этим ребенком одни неприятности. То куклу, привезенную из-за границы, ломает, то дорогое платье рвет, то разбивает антикварную сахарницу... А рисунки на обоях, а потерянные ключи, а неудачные кулинарные эксперименты, когда приходилось выбрасывать дорогие инвалютные сковородки? И еще болезни, с капризами и плачем...
Нет, мама никогда не кричала и тем более не била дочь. Но от ее презрительного: «Безрукая!» – Насте хотелось раствориться, исчезнуть, превратиться в невидимую пылинку.
Настя очень, очень мечтала, чтобы у нее тоже все выходило легко, как у мамы.
Чтобы непринужденно говорить по-английски. Чтобы одежда носилась так же, как мамина, – когда на костюме ни складочки. Настя мечтала научиться всему, что так блестяще умела мама: делать себе красивые прически, и считать в уме без всякого калькулятора, и готовить вкусные салаты – например, гордость на всю Москву: из ананасов с креветками...
Но, увы, не получалось. Одно из двух: или природа действительно решила на ней отдохнуть. Или, как Настя однажды подслушала, папашкины гены подмешались.
Папашка (Настей никогда не виданный) считался в семье Капитоновых образцом бездарности и сволочизма. О нем старались не вспоминать. Будто не было его – и все.
Мама с раннего детства пыталась выявить в Насте какие-нибудь таланты. Ну, пусть не таланты – способности. Или, хотя бы, склонности. Настю швыряли то на гимнастику, то на фигурное катание, то в музыкалку, то в художественную школу... И везде она оказывалась в середнячках. В твердой, надежной и скучной серой массе.
Пейзажи ее были забавны – но их никогда не брали на выставки.
Учительница музыки ставила ей «твердые четверки с переходом в пятерки», но никогда не приглашала выступить даже на общешкольном концерте, не говоря уже о мероприятиях в Доме композиторов или в консерватории... В фигурном катании ее максимальным достижением стала массовочная роль снежинки на новогоднем утреннике. Тренер по гимнастике гладила ее по голове и ласково приговаривала: «Настенька, – мое живое полено...».
Только классу к седьмому маме надоели эксперименты, и Настю, наконец, оставили в покое.
– Хотя бы в школе учись без троек, – досадливо напутствовала она бесталанную дочь.
И пару лет Настя была почти счастлива. Только уроки, и никаких дополнительных школ-секций-курсов. Появилось время поболтаться во дворе, походить по киношкам, почитать внепрограммные книги, освоить краткий курс первых поцелуев в подъездах и на пустынных детских площадках... (Если бы еще только вахтер из их дома за ней не шпионил и не докладывал потом деду: «А ваша Настя сегодня опять с каким-то длинным целовалась!»)
Мама безропотно подписывала дочкин четверочный дневник и лишь изредка досадовала, что Настю никогда не посылают на межшкольные олимпиады – даже районные, даже по литературе... А Насте – ей безумно нравилось, что больше не надо ни с кем соревноваться, и не нужно часами долбить непонятные науки или искусства и страдать из-за того, что ты – хуже других...
В девятом классе пришло время заикнуться о шубке. (Почти все девчонки из их спецкласса щеголяли в мехах, на худой конец в дубленках, и только две-три, Настя в том числе, донашивали детские пальтишки).
Мамуля фыркнула:
– Шубку? Это вряд ли!
– Но почему? Можно пошить очень недорого... Если скорняк знакомый...
– Нет, Настя. – твердо сказала мама. – Мы и так на тебя каждый месяц деньги откладываем.
– Какие деньги? – не поняла Настя.
Мама вздохнула, сказала раздельно и четко, как глупенькому ребенку:
– Ты в институт-то поступать собираешься? Или как, в ПТУ пойдем?
Настя пока всерьез не думала об институте. Но пришлось покорно кивнуть:
– Конечно, собираюсь.
– Поди, в инъяз намылилась? Или в МГИМО?
– Нет, в МГУ, наверно. На филологический. Или на философский. А можно и на факультет журналистики.
– Понятно... – протянула мама. – Предпочитаешь говорильню.
– Почему это говорильню? – ощетинилась Настя.
– Потому что книжки читать проще, чем доказывать теоремы и решать задачки. А трудностей ты боишься.