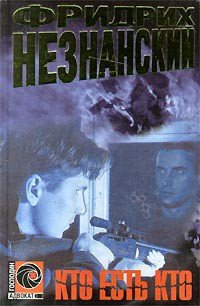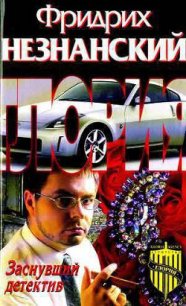Возвращение в Сокольники - Незнанский Фридрих Евсеевич (читать книги онлайн полные версии TXT) 📗
– Это какая ж инструкция, Василь Васильич?
– Здрасте вам! Да наша, муровская!… Ну и подвалы! Ох как я их ненавижу! А у вас, Саша, в Генеральной, ну, там, на Дмитровке, тоже подвалы имеются?
– А черт их знает, не интересовался. У нас же все-таки не Лубянка. И даже не Петровка, тридцать восемь.
– Это ты про пыточные, что ль? Где их нет!… – Сукромкин помолчал, словно к чему-то прислушиваясь, а потом снова заговорил, но гораздо тише и с долгими паузами: – Чего-то вспомнился вдруг Сенька-мокрушник… Был такой блатняк-отрицала, ты вряд ли помнишь… Добрый малый был. Цветы комнатные на хазе своей держал. А еще три кошечки у него жили. Мурка, конечно, Барсик и еще какой-то, забыл… К вышке его приговорили, а он сбежал. Очень у него это хорошо получалось, он и сам ловкий был такой, проворный, как кошка. И вот так три раза, не поверишь, уходил. А в последний мы его в таком же вот подвале брали… Нет, точно газом пахнет!…
– Да не чувствую я ничего, успокойся, Василь Васильич… А дальше что было?
– А чего? В Бутырке, в камере у себя, взял да и повесился. Как раз под Новый год. Уж теперь и не вспомню какой… Давно. Ему дружки вместе с гревом деньжат подкинули, так он на все гроши у того же конвойного веревку купил. И мыла хозяйственного. Здоровый кусок. А на нем только раскрытых пять мокрых дел висело. И столько же – по подозрению. Вот, Саша, а ты говоришь: фикусы там всякие, гортензии, кактусы-мактусы… Все он, говорили, беспокоился о своих цветочках и кошечках. Даже марухе своей писал в записочках названия каких-то специальных удобрений, которые тогда и достать-то можно было разве что на черном рынке.
– А повесился почему? Может, не сам? Помог кто?
– Не-е, сам. Загрустил отчего-то. Ну ты ж понимаешь, Саша, они, блатные, все психопаты. А эта маруха то ли изменила ему, то ли цветочки перестала поливать. Или, вполне возможно, кошек его разогнала. Разные тогда мнения были. Да и плевать, в общем, кому какое дело? Все равно бы не жил он…
– Не жил, это точно, – подтвердил Турецкий. – А что маруха?
– Маруха-то? О-о! Это серьезное дело, Саша. Девка красивая была. Такая вся из себя – не дай боже! Прямо высший класс! Хоть в «Огонек» на обложку! А так-то вообще она наша была, мы ее, еще когда он на воле бегал, завербовали. Майор Смагин был такой, не помнишь?
– Нет.
– Ну и правильно, это раньше тебя было. Ох чего он с ней вытворял! Любовницей у него была… Здоровый такой мужик! Умный… Известный опер. Ему потом блатные особую казнь устроили. Ему и ей, обоим, стало быть… Даже вспоминать страшно. Я тебе потом, если пожелаешь, расскажу. Только не здесь, не в темноте… Вот же инструкция проклятая!
– Чего это ты?
– Да я все про курево… Понимаешь, если рот дымком не прополощу, прямо, кажется, подохнуть могу! Чего, не веришь? Да я после того сердечного приступа только куревом и лечусь.
– У тебя что, сердечный приступ был? А почему я не знал? Когда?
– А еще прошлой весной, в апреле… Да ты, Саша, не бери в голову.
– Не понимаю, почему Грязнов ничего не сказал.
– Ну а если б сказал, так что? Ты бы меня на задание не взял? И все апрель. Хороший месяц, с одной стороны, теплый, травка из земли лезет. А мне постоянно не везет именно в апреле. В позапрошлом году на мине подорвались. Возле Атагов, в Чечне. Вот так осколочек прошел, еще б чуточку… А Борьку Малышева… Помнишь ведь Борьку-то?
– Не помню…
– Да должен был знать… Во-от, а в прошлом, значит, приступ. И так прихватило, ну, думаю, теперь-то уж точно – кранты! Даже завещание решил написать.
– Да ладно тебе! – улыбнулся в темноте Турецкий. Не такой уж и абсолютной, как казалось поначалу. Как-никак, а силуэт Василия Васильевича, прислонившегося к бетонному столбу спиной, он уже худо-бедно различал. Почти призрачный, рассеянный свет шел неизвестно откуда. А может, это он просто отражался от побеленных бетонных стен подвала, и источник его был где-то в стороне, куда не достигал глаз.
– Ты не улыбайся, Саша, – шутливо пригрозил пальцем Сукромкин. – Стал сочинять, ей-богу, хоть и говорят, что это – дурная примета. Специально нотариуса вызвал. Представляешь, Турецкий! Нотариус – это в мои-то годы! Приходит в палату… Да-а… Сама бабочка в полном, понимаешь, соку, спелая: ну тронь пальцем – так прямо соком и брызнет! Садится она рядом с моей койкой, а я и пальцем пошевельнуть не могу, не то что там мысли какие! Эх, думаю, где мои семнадцать лет? Где мой черный пистолет? Помнишь, как там у Высоцкого? Гляжу на ее ножки, и все у меня, Саша, дрожит. Она авторучку сует, чтоб подпись сделать на завещании, а я удержать ее не могу… Гляжу на ее ножки и совсем себя не чую. Она мне: «Ставьте, – говорит, – свой автограф», а я все смотрю и думаю: эх, милая, дал бы Господь сил, я б тебе сейчас такой автограф поставил, что ты у меня тут до потолка бы прыгала! Переживаю я эти грешные свои, значит, мысли, на нее гляжу и вдруг вижу, что она почему-то краснеть начинает! Будто краска в лицо ей хлынула! И коленками заерзала, а чулочки-то ее как заскрипели!… Аж застонал я от проклятого своего бессилия…
– Ну, Василь Васильич! – восхитился Турецкий. – И ты это все, что называется, на смертном одре?!
– А чего, разве ж не мужик был? Да-а… Ну дак как, думаю? Все теперь, полностью опозорился перед красивой бабенкой-то! Хорошо еще, один в той палате лежал. Да вот она еще рядышком сидела и ножками сучила да глазенками своими быстрыми все по сторонам зыркала. А то ну прямо стыд, да и только! И тогда она, Саша, – ты можешь мне не верить, но вот те крест, как на духу! – наклонилась ко мне совсем близко и одними губами шепчет: «Что ж ты, мол, милый, помирать-то собираешься, когда тебе жить да жить? Тебе, – говорит, – долго еще нас радовать!» А сама вдруг горячей своей ладошкой-то под одеяло мое шмыг! Туда-сюда, нашла-нащупала… А я, клянусь тебе, чувствую всем естеством, как что-то во мне шевельнулось и приподнимается, силы то есть откуда-то берутся! Да. Словом, никакого тогда я ей автографа, само собой, так поставить и не смог, да она и не обиделась, что зря со мной время только потеряла. Поняла ж мое состояние. Сказала на прощание, что, по ее убеждению, нет у меня необходимости составлять завещание. И ушла. Ладошкой своей ласковой помахала так и – покинула. А я с того самого дня резко на поправку пошел. Видишь? А ты говоришь!… Это она меня к жизни и повернула.
– Да я-то как раз ничего и не говорю. А после хоть встретились?
– Ну как же не встретиться? Нашел я ихнюю контору, зашел. При форме там, ну, этих – цацках всяких. Она меня увидала и прямо засветилась вся. Расспрашивать стала, как то, другое. Про здоровье. Я говорю, что исключительно ее заботами ни на что не жалуюсь. А она мне: это как же надо понимать? Ну, я как бы стесняюсь, народу-то у них там много всякого, говорю, что неплохо бы встретиться, чтобы потолковать насчет здоровья, как? И по глазам ее вижу, что она не против, но при всех стесняется. Сказала, чтоб подгреб часикам к семи.
– А здоровье что, в самом деле поправилось?
– Так вот я ж и говорю. В смысле – ей. Мол, проверить бы, как оно все складывается, ее-то молитвами. Очень ей это понравилось. И пока тянулось рабочее время, я к нашему с тобой дружку. Угадай с трех раз кто?
– Славка, что ли?
– Ну конечно, он, а кто же еще. Встреча у меня, Вячеслав, говорю, намечается. Конспиративная. Так что, мол, желательно бы. Ну он посмеялся маленько. Только и спросил: кто? Я ему про нотариуса в двух словах и изложил. Забрал ключи и – бегом. А он мне вдогонку: там, в холодильнике, если понадобится, так можно. Ну привез я ее, в холодильник залез, коньячку достал, водички, конфетки там всякие… Словом, сам понимаешь – на скоростях. Как в ранней молодости. Ах, думаю, грех совершаю, перед собственной старухой неудобно! Но дело-то вишь какое получилось. Выпиваем мы маленько – исключительно для развязности. Чтоб неловко себя не чувствовать, я ж ей, этой Леночке, в папаши годился. А она, смотрю, ничего, свободно себя ведет. То-се! Выбрал я один момент, когда у нас все получилось отлично, и спрашиваю: «А почему ты так и не стала завещание составлять? Разве только в моей подписи было дело? Я ж, – говорю, – знаю, что можно свидетелей пригласить, протокол соответствующий составить». А она хохочет! «Как, – говорит, – в глаза твои заглянула, как увидела пламя в них, а после рукой проверила, так сразу и поняла, что ты лишнее затеял. Будешь, – говорит, – жить. Так чего ж тогда попусту?» Ну, в общем, натешились мы с нею, и такая у меня к ней благодарность в душе возникла! Словами не описать, Саша. Доставил я ее домой, к подъезду. Там, в темноте, поцеловались мы на прощание. А она и говорит: «Вот, мол, и все, и спасибо тебе, хороший ты человек». Я сразу понял, что попрощались. И настаивать не стал. Да и незачем. Неправильно это было бы. И знаешь, еще о чем подумал?