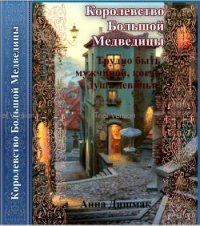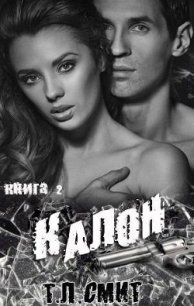Леди-бомж - Истомина Дарья (прочитать книгу TXT) 📗
Чичерюкин сидел в кресле, принесенном из холла, как раз напротив двери и читал газету «Московский комсомолец». Я не знаю, как и когда он снова вынырнул, но похоже, что охранник занял свою позицию, едва я вступила в номер.
Он отбросил газету и вздыбился, загородив мне дорогу:
— Куда?
— Пожевать и за табачком… — машинально ответила я.
Я не поняла, как он это делает, но он чуть шевельнул плечом, шагнул — и я влетела назад, в номер.
Он выдернул ключ из моих пальцев и добавил нехотя:
— Сиди! Я принесу…
— Слушай, ты! Я ведь орать буду!
— Ори… Только кто тебя услышит? — осклабился он. — Тут — все свои. То есть мои. Доходит?
Я молчала, он довольно кивнул, вышел, и я услышала, как в замке повернулся ключ. Я всегда подозревала, что меня где-нибудь по новой запрут, только не догадывалась, что это произойдет так скоро.
Охранник вернулся с пачкой «Явы» и разовой зажигалкой, на тарелочке под бумажной салфеткой — блинчики с творогом.
— Ну, и что со мной теперь будет? — не выдержала я.
— Откуда я знаю? Что прикажут, то и будет…
Широкая рожа его была неподвижной, но глазки злорадно светились. Он ушел и снова запер меня.
Я подняла телефонную трубку. Телефон был отключен. Наверное, здесь, как и в каждой гостинице, есть служба собственной безопасности. Но похоже, для нашего охранника она действительно своя. Они же все из бывших, не то ментов, не то отставных гэбэшников.
И кажется, Гурвич точно знал, куда меня отвезти и где припрятать. Падла гнилозубая!
Я подошла к окну. Далеко вниз уходила отвесная стена, там копошился людской муравейник и суетились на своротке с Кутузовского проспекта легковушки. Номер был угловой, в одной из башен, окно узкое, как бойница.
Ну, и что мне делать? Вылезать на подоконник и вопить благим матом? Ну, во-первых, кто услышит? А если услышат, чем кончится? «Скорой помощью» из психушки, смирительной рубашкой или уколом в задницу до полной отключки, когда становится все равно?
Я не заметила, как слопала блинчики. Они были вкусные. Покурила, подумала, передвинула письменный стол и кресло, загородив дверь, взвесила в руке настольную лампу, она была из старых, из латуни, и тяжелая. Если что — придется бить по башке. Если полезут. Хотя все это против охранных штучек — детский лепет.
Интересно, а знает ли, что творится, Симон?
Или его холуи стараются так, на всякий случай? По отработанной схеме?
Конечно же я им всем больше совершенно не нужна. Более того, слишком много знаю. А таких гасят без раздумий, даже в более примитивных случаях.
Вот теперь на меня наваливалась самая настоящая физическая усталость. Начала отходить и ныть спина, которой досталось от вертолетной трясучки. Заболели ступни от слишком узких туфель. Голова становилась тяжелой, как чугун.
Челюсть то и дело выворачивало зевотой. Я скинула туфли, стянула платье, чтобы не мять, и улеглась поверх пикейного покрывала на полутораспальной деревянной кровати с инвентарным номером на спинке.
Я тупо и равнодушно, будто речь шла о совершенно постороннем человеке, прикидывала, как меня могут прикончить. Во-первых, нашпиговать наркотой до передозировки. Вот в этом самом номере. Пойди потом разбирайся, кто я такая и как сюда проникла… Во-вторых, автокатастрофа, то есть влить мне в глотку до отключки мощной выпивки, усадить за руль какого-нибудь «Запорожца» и долбануть в лоб каким-нибудь «КамАЗом». Но для этого нужна подготовка, машины и все такое…
Проще всего изобразить полное взаимопонимание, вывести меня за пределы отеля, двинуть по башке и скинуть в Москву-реку, привязав к ногам что-то железное. В этом случае мое бездыханное тело могут и поуродовать, чтобы медэксперты и сыскари не сразу определили, что это и есть останки разнесчастной Л. Басаргиной…
Не знаю, как я умудрилась заснуть. Но отключилась я всерьез и надолго. А проснулась от дикого вопля:
— Мы победили!!
За окном была ночь, стол и кресло от двери отодвинуты, а охранник поддерживал сзади, под мышки, качающегося в распахнутых дверях пьяного до последнего предела Семен Семеныча Туманского. От всей его тяжеловатой элегантности и лоска не оставалось ни фига. Я не знаю, где его носило и под какими заборами он успел отдохнуть, но к его лоснящемуся голому куполу прилип мокрый березовый листочек от банного веника. Допускаю, что владелец заводов, газет, пароходов расслаблялся в какой-нибудь суперсауне, в своей компании.
Расколотые очки свисали с его уха без одной дужки, и он пытался пользоваться ими как моноклем. Во вздернутой руке он держал длинную бутылку, наподобие монумента Родины-матери на Мамаевом кургане, только там в деснице возносился победный меч. Из бутылки капали остатки красного вина, стекали по его щекам и подбородку и пятнали пластрон его белоснежной крахмалки кроваво и гнусно. Впрочем, рубаха была разодрана до пупа, и из-под нее смотрелось волосатое брюшко. Мой герой был похож на вставшего на задние лапы мохнатого медведя гризли. Если медведи, конечно, тоже пьют.
Хотя не уверена, что кто-нибудь из представителей животного мира мог бы надраться до такой степени.
Я молча слезла с кровати, сдернув покрывало и прикрывшись им. В глазах у него клубилась серая дымка, он щурился, пытаясь поймать меня в фокус, наконец поймал и — зарыдал.
— Богиня… — бормотал он, всхлипывая. — Умница… Партизанка! Грудью, грудью своей… А ведь никто! Но — смогла! Позвольте вас… э-э-э… обнять!
Он аккуратно поставил бутылку на пол, распахнул объятия и двинулся на меня, как танк.
Я взвизгнула и посторонилась.
Он врезался в платяной шкаф, погрозил ему пальцем, сказал:
— Всем — вон!
Сел на пол, порылся в карманах, вынул кожаную коробочку, протянул мне, пробормотал:
— Это вам… Понимаю, недостоин… Чем могу!
Туманский тут же вытянулся на коврике и захрапел.
Я очумело посмотрела на дверь. Дверь была нараспашку. И никакого охранника больше не было.
Я выглянула в коридор.
Здесь его тоже не было. Но зато, опершись о стену спиной, небрежно скрестив совершенно невероятной длины ноги, стояла прекрасная незнакомка. Белые туфли на каблуке сантиметров в двенадцать, коротенькое платьице из белой тафты с вырезом почти до сосков, с покатых плеч свисал снежно-белый песец. Коротенькая челочка тоже была белая, даже чуть-чуть с синевой. Что-то в этой Белоснежке было грубовато-гренадерское. Во всяком случае, на своих каблуках она оказывалась выше даже меня и смотрела на меня сверху вниз, чего я не выношу. Вообще-то это было нечто холеное, отполированное, продуманно-сочное, да и личико было сделано умело — от высветленных наивных бровок, громадных очей как бы из голубого фарфора, только с помадой она прокололась — темно-лиловая, она делала ее великоватый рот еще больше и капризнее.
Она курила сигарету в длинном мундштуке из кости и в то же время успевала жевать резинку. Такие берут за ночь не меньше полуштуки баксов, но может быть, я ошибалась. И она была вполне порядочная девушка из приличной семьи, студентка, спортсменка и так далее. Двадцати ей явно еще не было, и я сразу же почувствовала себя уже старой.
— Отбился? — спросила она с ленцой, разглядывая меня.
— Да.
— Свинья…
Она заглянула в дверь, вынула из сумки сотовик, сообщила мне:
— Я его таким еще не видела! Набрала номер. И добавила:
— Я его забираю…
— Вали отсюда! — ласково сказала я.
Она пожала плечами, спрятала телефон в сумку и, не оборачиваясь, потопала прочь.
Я так никогда и не узнала, кем она была или чем она была для Туманского.
Я вернулась в номер, заперла дверь на ключ, вынув его из замка снаружи, и только теперь раскрыла коробочку. На бархатной подложке в гнездышках лежали сережки, абсолютное попадание, то, что мне шло больше всего, — платина, а не золото, изумрудики насыщенно-искристого зеленого цвета, под цвет радужки, плоские. Все чуть-чуть намеренно грубовато, очень просто, и окаймление из почти незаметных брюлечек подсвечивало зелень камня изнутри.