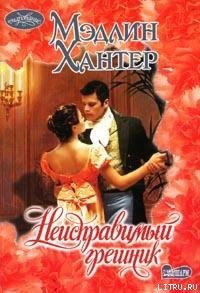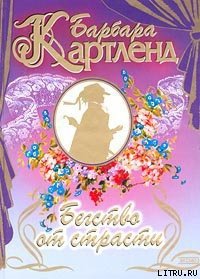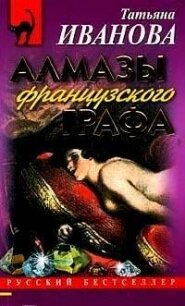Бэль, или Сказка в Париже - Иванова Татьяна Антоновна (читать книги бесплатно полностью без регистрации сокращений .TXT, .FB2) 📗
Лечение Николая Степановича, проходящее вполне успешно, перемежалось теперь его работой, до которой он дорвался наконец, как изголодавшийся путник до еды.
Портрет пастушка он писал в течение четырех месяцев, с трудом выкраивая время, которое почти полностью съедало лечение и физические упражнения. Однако по истечении этого срока, когда Великий Лама, порадовавшись результатам его оздоровления, умерил-таки интенсивность своей лечебной практики, художник принялся за его портрет.
Сначала все шло довольно гладко, ибо въевшиеся в память Николая Степановича черты Сю-Алыма, которые он наблюдал ежедневно в течение десяти месяцев, запечатлеть было вовсе не сложно. Однако как только дело дошло до глаз Великого Ламы, Николай Степанович понял, что не в состоянии их изобразить. Он совсем не знал этих глаз, несмотря на то что видел их ежедневно. Он не знал, что в них скрывается за теми семью печатями, которые Великий Лама тщательно оберегал. И тогда художник принялся исподволь наблюдать за Сю-Алымом, надеясь поймать и удержать в памяти то главное, что так необходимо для портрета. Однако не тут-то было! Великий Лама словно наложил табу на эту главную часть своего лица, Николай Степанович не мог прорваться через запретную черту. Художник огорчился, ибо не в его правилах было изображать пустые оболочки человеческих лиц без отображения их внутренней сути. Ведь без этого, самого главного, настоящего портрета получиться никак не могло!
И вот когда окончательно расстроившийся Николай Степанович решил, что оставит эту несостоявшуюся работу, к нему вдруг пришло озарение. Он вспомнил лицо Сю-Алыма в момент гипноза. Оно пробилось сквозь гипнотическую завесу, как несмелый солнечный луч сквозь нахмурившуюся тучу, и художник, увидев глаза Великого Ламы в тот момент, понял наконец, что его мучило все это время.
— Вот! — сказал он себе. — Вот когда его глаза были тем, что они есть на самом деле! Именно в тот момент в них светилась душа Сю-Алыма!
Николай Степанович увидел это только теперь и очень обрадовался своему открытию. Он всю ночь напролет простоял у холста и только под утро, когда его уставшие до изнеможения ноги стало покалывать застойными мурашками, с великим удовольствием прилег на кровать и уснул.
Портрет Сю-Алыма ему удалось закончить довольно быстро. Великий Лама был изображен во время проведения совета лам в главном монастырском зале, восседающим на высоком, похожем на трон стуле. Взгляд его, несущий в себе всю мудрость мира, был устремлен вдаль, словно там, в этой далекой дали таилось нечто такое, что придавало ему силы вершить свои великие деяния.
Лечение Николая Степановича приближалось к концу, когда его рука вновь потянулась к мольберту, чтобы изобразить ту, которая завладела его сердцем. Молодость Бэль, ее непосредственность и чистота делали девушку абсолютно открытой для глаз великого художника. А чувство любви, окрылявшее его творчество, во сто крат увеличивало вдохновение. Он изобразил Бэль в тот момент, когда она перепрыгивала через небольшой горный ручей. Николай Степанович часто наблюдал ее за этим занятием, всякий раз не переставая удивляться той легкости, с которой ей удавалось это делать. На картине был зафиксирован момент прыжка девушки с полуоборотом назад. Так, словно ее кто-то случайно окликнул, заставив повернуть корпус и голову на зов. И вопросительный, удивленный взгляд Бэль был устремлен на этого кого-то. Черные, длиною до пояса вьющиеся волосы девушки хаотично подлетали вверх вместе с легкой белой накидкой из тончайшей кисеи, накинутой на ее плечи, увлекая за собой и подол широкой цветастой юбки, которая оголяла щиколотки босых ног. Распростертые руки Бэль напоминали взмах птичьих крыльев, помогающих вынесенному вперед бедру совершить этот прыжок — полет над ручьем. Вечернее предзакатное солнце окутывало тонкий стан девушки розовеющими лучами, зеркально отражая легкий пурпур в бегущем потоке воды, и, вторя художнику, откидывало тень парящей над ручьем Бэль на ближайшую горную гряду.
Николай Степанович нанес последний штрих и положил кисть на мольберт.
— Вот и все! — сказал он себе, окидывая свое творение пылающим, полным любви взглядом. — Теперь я смогу любоваться тобой сколько угодно!
…После исчезновения картин обстановку в доме можно было назвать траурной, и тон этому трауру задавал убитый горем Николай Степанович. Он плохо ел, похудел и осунулся, в отношении к родным снова то и дело вспыхивало раздражение. В руках опять появилась трость, а легкость походки исчезла, он стал сутулиться. Одним словом, из него уходила жизнь, вдохнутая Тибетом. Близкие были удручены таким его состоянием, а особенно Софья. Она и сама осунулась от переживаний за отца, да и как ей было не переживать, если источником этих переживаний являлась она сама.
«Ах, Павел Андреевич, Павел Андреевич! Что же мы наделали! — сокрушенно думала она, заламывая руки, никак не ожидая такой реакции отца на пропажу картин. — Ах, чует мое сердце беду! Беду неминуемую! Это убьет папу, а потом и меня. Но я-то ладно, сама виновата в своей греховной судьбе, мне поделом! А вот папа! Господи! И теперь уже ничего нельзя изменить, разве только признаться ему в своей вине? Будет еще хуже! Как сможет он перенести предательство любимой дочери? Это добьет его окончательно!»
Когда Софья согласилась выполнить просьбу Ратникова, она не показалась ей такой коварной, она не взяла в расчет того, что картины эти были дороги отцу как сама жизнь, особенно «Бэль», из-за которой он сокрушался больше всего, и что с их потерей он мог потерять жизнь! «Что тут такого? — думала тогда Софья. — Ведь папа постоянно прощался с какой-нибудь из своих картин. Он обычно после завершения работы вывешивал картину в гостиной, а потом, по прошествии времени, когда находился подходящий покупатель, продавал ее. И потом, он ведь иногда писал на заказ, заранее зная, что это его творение и вовсе не задержится в доме! Конечно, он будет переживать, но именно из-за того, что они украдены, а потом утешится, написав другие, ведь он теперь полон новых творческих сил и уже принялся за очередную работу».
Ей казалось, что осуществление плана Ратникова реализовывало все ее мечты. Она находилась в таком любовном угаре, что считала возможным покинуть мужа, уехать за границу и навеки соединиться там с любимым.
— Понимаете, Софи! — убеждал ее Павел Андреевич. — У нас с вами нет другого выхода! Ну, скажите, кто даст нам открыто любить друг друга здесь, в России? Или вы хотите, чтобы наши отношения всю жизнь были таковы, как теперь? А если нам захочется завести семью, ребенка? Конечно, мне досталось от отца кое-какое состояние, но для нашего с вами будущего этого недостаточно.
Боже мой! Как трепетало ее сердце от этих слов! И как она сама хотела ребенка, которого Бог все еще не дал ей до сих пор! А тут — семья, ребенок, да еще от него! А цена-то — всего лишь три отцовские картины!
— И слава богу, что нашелся такой человек, который готов заплатить за эти картины огромную сумму, — убеждал ее Павел Андреевич. — Мы сможем купить дом в Англии, и там любовь наша не будет иметь преград!
Он дал ей на раздумье неделю. И она, заглушая тревожный голос сердца любовными грезами, согласилась.
План был прост. Софья должна была усыпить дворецкого сильным снотворным, имитировать ограбление дома, глубокой ночью вынуть картины из рам и запрятать их в своей комнате, а потом, воспользовавшись удобным случаем, передать их Павлу Андреевичу.
Осуществить первую часть плана для нее оказалось несложно, ибо в тот момент она еще не почувствовала всей серьезности этого мероприятия и щемящих укоров совести. Но когда дело дошло до снятия картин, она испугалась. Ее трясло как в лихорадке, руки не слушались, она несколько раз укололась о гвозди, торчащие в рамках. «Что ты делаешь, что творишь?!» — больно кричало ей сердце, когда дело дошло до картины «Бэль», но она продолжала начатое, понимая, что отступать теперь уже поздно: дворецкий лежал у двери, первые две картины небрежно валялись на полу и вернуть их на место уже не представлялось возможным. Но главное — Ратников! Ведь после этой переживаемой ею пытки ее ждала его любовь.