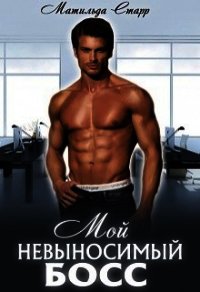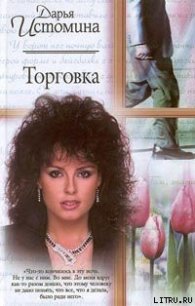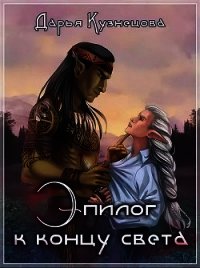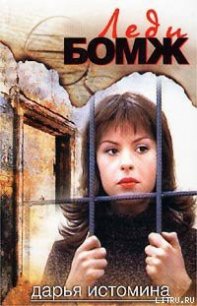Леди-босс - Истомина Дарья (прочитать книгу .txt) 📗
Ничего и никогда она не забывала. Но говорила не все. Даже мне. Шесть лет она протопала рядом с Викентьевной, но до сих пор была заперта, как сундучок с секретом. И ловко уходила от моего любопытства. Впрочем, это было замечательно, поскольку означало, что никому не откроются и подробности жизни новой Туманской.
«Ей можно верить, и это главное», — говорил Сим-Сим.
Но, судя по тому, что я успела понять, к нему самому Элга относилась с большой долей иронии и тщательно дистанцировала себя, не позволяя никакого амикошонства, была подчеркнуто исполнительна, как бы давая ему понять, что обязанности свои она исполняет четко, а что до ее личной жизни — это ее сугубо интимное дело, куда совать нос никому не позволено.
Я, конечно, сунула, но ровно настолько, насколько она мне позволила. Кое-что я узнавала из ее случайных оговорок, из неизбежных сплетен, ходивших среди обслуги, кое-что растолковал Сим-Сим, кое-какие детали я извлекла и из ее досье, хранившегося в отдельной папочке в спальном сейфике на территории. Но там, в папочке, было лишь две странички, в которых было мало интересного. Но, во всяком случае, я поняла, откуда у Элги этот акцент и языковые нелепости в ее речах. И, конечно, немецкая пунктуальность и почти армейская выучка в смысле исполнительности и дисциплины.
В семидесятых годах способную латышскую девочку из хутора близ курляндского города Вентспилса (бывшая Виндава) отправили по обмену в художественную школу к тевтонам, в тогда еще народно-демократический Дрезден. Так что немецкий она знала в совершенстве. С художеством у Элги что-то не заладилось, тем более что она занималась керамикой, а для этого просто мастерской мало, нужны муфельные и обжиговые печи и тому подобное. Туманская нашла ее и приблизила к себе, сделав чем-то вроде полусекретаря-полуподруги, уже когда Союз посыпался и Элга застряла в Москве, где занималась идиотским делом: дрессировала и формировала дубоватых жен и подруг «новых русских», превращая их, хотя бы внешне, в цивилизованных леди.
Элга была хороша, и, если бы я была мужиком, я немедленно бы в нее втрескалась. Небольшого росточка, крепенькая, сложенная почти идеально, она напоминала статуэтку, которую можно уместить на ладони. Рядом с ней я иногда чувствовала себя громадной и неуклюжей. У нее была безукоризненная атласная белая кожа, какая бывает только у натуральных рыжих, с чуть заметными крапинками веснушек над вздернутым туповатым носом, грива волос редкостного медно-темного цвета, которые она обычно стригла под мальчика. И совершенно убойные громадные глазищи тоже очень редкого орехового отлива, вернее, цвета старого янтаря, которые становились желтыми, как у кошки, и выцветали, когда она психовала. Только по этому и можно было судить, что она в заводе. Внешне она всегда оставалась вежливо-надменной, негромкой и точной, как будильник.
Иногда мне казалось, что в нее и вправду встроен какой-то точный механизм, управляющий ее действиями.
И именно он не позволял ей меняться. Хотя бы в смысле возраста. Потому что я не без изумления обнаружила, что нашей Элге уже за сорок, хотя хвостик был пока невелик. Во всяком случае, стареющей дамой я бы назвать ее не осмелилась. Похоже, что Элга тормознулась на какой-то невидимой грани между цветением и увяданием. Изредко в ней проскальзывало любопытство школьницы, которая втихаря разглядывает под одеялом какой-нибудь секс-журнальчик.
Мужики на территории, особенно из охраны, вбивали под нее клинья, случалось, на Элгу западал кто-нибудь из гостей, но это ее не колыхало. Она ловко, продуманно и вежливо ускользала от самых настырных, умудрялась никого не обидеть и даже оставить некую надежду на будущее.
Как-то она мне сказала: «Я имею статус старой девы, Лиз. Меня это устраивает!»
Старой она, конечно, не была, но, как я поняла, девой оставалась. В этом было что-то не то лесбийское, не то просто вывихнутое. Но в тот день, когда мы с ней оказались на подворье Гаши, в деревне Плетенихе, после моей расписки с Сим-Симом, нас занесло на пропарку с вениками и квасами в деревенскую баньку, и я впервые разглядела, какая она ладненькая и вкусненькая, с алыми сосочками на грудках, тонкая в талии, с чуть-чуть тяжеловатой попочкой… Она нехотя призналась, что некогда ее насмерть перепугал всеми своими сверхгабаритными причиндалами какой-то рижский художник, в которого девчонка из выпускного класса гимназии имени Яниса Фабрициуса была влюблена романтично и платонически, в ужасе она едва унесла ноги. Этот первый неудачный опыт остался на всю дальнейшую жизнь единственным опытом.
Впрочем, если уж совсем честно, я ей не очень поверила. Тогда. Хотя позже убедилась, что Элга Карловна Станке, если решается в исключительных случаях на откровенность, выдает только правду.
Что уж само по себе было уникально.
Так что то открытие, которое сделала я сама для себя в конце неудачного коронационного дня, было для меня не просто неожиданным, а невероятным.
В камине потрескивали дрова, я грела ноги на решетке, Элга протирала мокрой ваткой листики бонсаевских деревцев, когда начало происходить нечто необъяснимое.
В здании стояла полная тишина. Вдруг Элга к чему-то прислушалась, застыв. Ресницы ее дрогнули, лицо побледнело.
Она схватила свою сумку, порывшись, вынула из нее щетку для волос и, уставившись в зеркало над камином, начала лихорадочно взбивать свои рыжие пламена.
— В чем дело? — удивилась я.
— Ни в чем! — буркнула она. Теперь она пудрила нос и скулки, потом покрасила губы помадой махагони, подушилась.
Элга чистила перышки.
Но с чего это?
В этом было что-то экстрасенсорное. Впрочем, со мной подобное случалось. «Мерс» Сим-Сима еще только сворачивал с трассы на подъезд к нашему загородному жилищу, никто мне ничего не сообщал, но я уже точно знала, что он вот-вот появится, и какая-то необъяснимая сила заставляла меня поменять тапки на туфли, халат на его любимое платье, распаковать новые колготки, рвануть к зеркалу… Но, освеженной и похорошевшей, ни в коем разе не бросаться ему на шею, а усесться в кресло с журнальчиком в руках, ножка на ножку, коленочку на обозрение, и, когда он наконец появится в дверях, бросить небрежно-удивленное: «А я тебя не ждала…»
Элга выдала номер еще хладнокровнее. Она надела деловые очки, уселась за рабочий стол спиной к двери и уткнулась в какие-то бумаги, всем своим видом показывая, что она никого не ждет.
И только тут я услышала: внизу грохнула дверь, кто-то басовито рявкнул.
Кузьма Михайлович Чичерюкин изволили прибыть из-за города в офис.
— Ни фига себе хохмочки! — заржала я. — Вы ли это, Элга?
Она глянула на меня из-под очков как-то беспомощно, по-детски и, покраснев, сказала:
— Я понимаю, это не имеет логики… Но почему-то так получается! Чрезвычайно глупо, да?
Еще бы не глупо!
Чичерюкин именовал ее не иначе как «наша рыжая морква». Именно так, не «морковка», а ухмылочно — «морква». Она же его — «тот самый Кузя» или «Чич», иногда — «бобик с пистолетом». И как-то при мне, зажимая нос платочком, заявила, что от кого-то несет солдатским гуталином. На что Михайлыч невозмутимо заметил: «Говном бы не пахло. Чем надо, тем и несет! Я „шанелями“ не опохмеляюсь, мадам Станке!»
В общем, они так усиленно демонстрировали свою взаимную неприязнь, что мне давно следовало догадаться: что-то тут не так. Но представить себе, что наш Михайлыч, со своими тремя дитенками и похожей на кадушку хохотушкой-женой, может быть романтическим объектом для такой, как Элга, было трудно.
И тем не менее…
Чичерюкин был в унтах, полушубке нараспах и волчьей шапке. От него несло зимней свежестью. Кирпичного цвета рожа была угрюма.
Я уставилась на него с каким-то новым интересом. Он был похож на Сусанина, который только что героически завел польских интервентов в непроходимое болото, а сам успешно смылся. После смерти Сим-Сима он перестал бриться, и ржаная бородка с усами делала его еще больше похожим на простого мужика. Я только сейчас поняла, что Михайлыч у нас персона не просто служивая, но, в общем, сильно симпатичная. Плечи развернуты, не обоймешь, пузико, конечно, нажито, как у каждого, кто перестает заниматься греко-римской борьбой или поднимать тяжести, но было в нем что-то устойчивое и надежное.