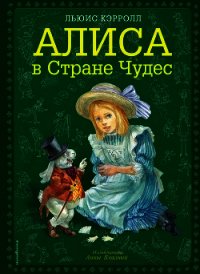Убийственное лето - Жапризо Себастьян (книги бесплатно без онлайн TXT) 📗
Я говорю девочке: «Посмотри на меня». Беру ее голову и заставляю повернуться к Себе. Она смотрит на меня своими голубыми глазами как будто безразлично, но все видит, можете быть уверены. Я шепчу: «Ну, спроси же меня». Она тихо качает головой, не отводя взгляда. Я убеждена, что внутренне она вся сжалась, но не хочет этого показать.
Я наклоняюсь к ней и говорю: «У меня не было детей, и я поэтому очень внимательна с той, которую хотела бы видеть своей дочерью». Она не понимает меня и с гордостью отвечает: «У меня уже есть мать». Я говорю: «Знаю, глупая. Я хочу сказать, что ты можешь мне доверять». Она поднимает плечико, ей наплевать. Я повторяю: «Спрашивай». Она произносит губами: «О чем? О том, кто привез это мерзкое пианино? Мне-то что до этого?» Она хочет встать, но я удерживаю ее за руку. Когда я хочу, то еще могу быть сильной. «Ты, – говорю я ей, – спрашивала об этом у Флоримона и у Микки. Они были слишком малы, чтобы помнить. Ты спрашивала у сестры. Ее в тот день не было дома. Она уехала в Панье помочь матери Массиня, у которой умер муж. Ты знаешь, как он умер? Его раздавил трактор. Сестра вернулась лишь на другой день, чтобы покормить нас. Я все запомнила. Только я одна могу тебе об этом рассказать. А ты не хочешь спрашивать».
Она немного думает, не спуская с меня своих голубых глаз. Затем, приняв решение, говорит губами: «Я ни о чем не спрашиваю. Я хочу выйти замуж за Пинг-Понга, вот и все». Затем встает, резкими движениями приглаживает платье и очень отчетливо губами добавляет: «Балда!» Резко хлопнув дверью, уходит к автобусу на Брюске.
Вынужденная опираться рукой о длинный стол, я иду к двери и кричу: «Элиана!» Я не видела, чтобы она прошла под окном, и не знаю, ушла ли она. Поэтому говорю достаточно громко, чтобы она слышала, если стоит за дверью: «Его зовут Лебаллек. Он был вместе с шурином. Лебаллек! Слышишь?» Я вижу, как поворачивается ручка двери. Элиана появляется на пороге и смотрит на меня вдруг постаревшим лицом. Сейчас ей куда больше ее двадцати лет, и она так холодна, словно потеряла сердце. Я продолжаю: «Этот Лебаллек работал у Фарральдо, хозяина Микки. Они выпили тут вина, он, его шурин и мой свояк. Было поздно. Во дворе намело много снега». Девочка инстинктивно оборачивается. Я спрашиваю; «Сестра здесь?» Она спокойно делает знак головой – нет. Я продолжаю: «Лебаллек сидел на краю стола, его шурин тут, а Лелло была на моем месте. Втроем они стащили пианино с грузовика. И оставили во дворе. Флоримон стоял у ног отца. С часок поболтали и посмеялись, затем верзила Лебаллек и его шурин уехали».
Она не открывает рта. Стоит прямая, в своем новом платье, с постаревшим лицом и будто лишилась сердца. Я говорю: «Зайди. Закрой дверь». Она не заходит, а хлопает перед моим носом и уходит. Кричу: «Элиана!» Но на этот раз она не возвращается. Медленно бреду к своему креслу. Не знаю, который сейчас час. Вечер или день. Я снова сажусь в кресло. Сердце бьется сильно, и мне не хватает воздуха. Стараюсь думать о другом. Она хорошая девочка, и мне хочется, чтобы она всегда была такой хорошей.
Я вспоминаю, как обрадовался мой муж в 1938 году, когда мы подумали, что у нас будет ребенок. Тогда тоже было лето, но солнце находилось куда ближе к нам, чем сейчас. Меня отвезли в больницу. Надежда не оправдалась. У меня не могло быть детей. Но мы продолжали надеяться. Он был вагоновожатым на трамвае. Сестра вернулась в Динь и работала гладильщицей. У меня же был диплом, я собиралась стать учительницей, как та, к которой поехала девочка. В жизни никогда не имеешь того, что хочешь. У вас убивают мужа. Вам уже не с кем поговорить. У вас постепенно отбирают летние дни, и солнце оказывается таким далеким, что холодно даже в июле. Вам говорят: «Помолчите!» Послезавтра в субботу девочке исполнится двадцать лет. Я могу дать ей две тысячи франков из своих денег. Останется еще шесть. Их вполне достаточно, чтобы похоронить двух вдов. Я все время думаю: как я могла тогда, 27 мая 1944 года, когда упала бомба, выпустить руку мужа? Просто не знаю. Нет тому объяснения. Никак не могу поверить, что бомба оказалась сильнее нас.
Состав преступления
1
Они приехали в середине дня. Солнце стояло высоко над головой. В горах выпал снег, покрыв пихты перед домом. Однако солнце было жаркое, как в апреле. Я знала, что к вечеру погода испортится, налетит северный ветер и снова пойдет снег. Уж в погоде разбираюсь. Я ведь дочь крестьянина. Родилась в Фиссе, что в Тироле. Все думают, что я немка, но я австрийка. Французы считают, что это одно и то же. Они прозвали меня Евой Браун.
Еще девочкой, лет двенадцати-тринадцати, я с матерью и двоюродной сестрой Гердой мыла полы в большом берлинском отеле «Цеппелин». Однажды портье, неприятный человек, норовивший шлепнуть меня всякий раз, когда я недостаточно быстро проходила мимо него, сказал: «Посмотрите, там на улице Ева Браун». Мы все бросились к огромным окнам и увидели молодую блондинку, выходившую вместе с другими дамами и офицерами из министерства напротив. Я запомнила ее хорошо причесанные белокурые волосы, небольшую шляпку, мягкое выражение лица. На улице было полно серых автомобилей. Конечно, то была никакая не Ева Браун. Директор герр Шлаттер, добрый человек, сказал нам: «Не стойте тут. Уходите». Это было на Вильгельмштрассе, самой красивой улице Берлина, напротив министерства авиации. В холле гостиницы над лестницей висело изображение цеппелина, напоминающее огромную почтовую марку в 75 пфеннигов. А до этого я жила в Фиссе, что в Тироле. Знаю толк в земле, небе и горах.
Когда они приехали, я стояла на опушке леса. Я видела, как грузовик ползет вверх, делая виражи. Была суббота, ноябрь 1955 года. Я поняла, что они заблудились. За четыре километра до Аррама есть развилка, и автомобилисты часто ошибались. А так к нам никто не заезжал. В руках у меня заяц, попавшийся в силки Габриеля, которые он установил в двадцати метрах от тропинки, ведущей к нашему дому. Под старой американской шинелью на мне была только комбинация, а на ногах – старые резиновые сапоги. Провозившись целый день в доме, я, вероятно, только что умылась и, увидев в окно попавшегося зайца, вышла, даже не одевшись, ведь сюда обычно, никто не заезжал.
Я пошла навстречу грузовику. В кабине были трое, но вылез только водитель. Верзила, коротко стриженный, в куртке с меховым воротником. Он сказал: «Мы, видно, сбились с пути. Где тут Аррам?» Изо рта у него шел пар, хотя солнце было жарким, как в апреле. Мне было 27 лет. Я стояла, одной рукой придерживая полу шинели и с мертвым зайцем в другой. Я сказала: «Вы поехали не туда, куда надо, после развилки. Вам бы повернуть налево и ехать вдоль реки». Он кивнул в знак того, что понял. Его удивил мой акцент, и он глазел на мои приоткрытые коленки. Не знаю почему, я добавила «извините». Те другие тоже глазели на меня. А этот сказал: «Отличный попался заяц». Оглядев дом и горы вокруг, добавил: «Тихо тут у вас». Я не знала, что ему сказать. Было тихо, снежно, и только мотор тарахтел на холостых оборотах. Наконец водитель выговорил: «Ну ладно, спасибо. Мы поедем». И залез обратно в грузовик. Обождав, пока они развернутся и уедут, я пошла обратно в дом.
Я была одна с предыдущего дня. Раз в три недели Габриель уезжал к своей сестре Клеманс в Пюже-Тенье. Меня она не желала принимать. По моему виду и по тишине в доме водитель, наверное, понял, что я одна. Но это не вызвало у меня тревоги. В те времена я была очень застенчива, куда больше, чем теперь, но совсем не пуглива. Слишком много страха пережила я в последние месяцы войны.
Выпотрошив зайца, отнесла его в погреб, где уже лежал еще один. В ту зиму мы ели только зайчатину. Потом я что-то еще делала, уж не помню. Часа в два-три оделась. Стоя перед зеркалом, вспомнила троих из грузовика. Особенно Одного, как он смотрел на меня, когда я стояла в одной комбинации под шинелью. И почувствовала, как сильно забилось сердце. Не скажу, что от страха, нет. Стыдно признаться, но это так. Я давно не любила Габриеля. Похоже, я любила его только вначале, когда мы бежали из Германии. Но никогда не изменяла ему. Тем не менее сердце начинало сильно биться, когда мужчины оглядывали меня и я читала в их взглядах желание. Но раз я не была неверной женой, то говорила себе: «Ты кокетка». Теперь-то я знаю, что я такая же, как и моя дочь. Или, к несчастью, она стала такой же, как я. Она думает, что ее любят, если хотят переспать с ней. Я никогда не рассказывала ей всю правду: как бы она ко мне ни приставала, просто не могла. Никто бы не смог на моем месте. И я не сказала ей, что перед зеркалом, надевая платье, я испытывала приятную истому. Я не сказала ей, что могла бы спуститься тогда в деревню, найти у кого-нибудь приют, объяснив, что осталась одна и мне страшно. Они обозвали бы меня Евой Браун и стали бы снова подозрительно и обидно оглядывать. Но тогда бы ничего не случилось. Вместо правды я сказала дочери: «Я не сожалею о случившемся. Тогда бы не было тебя, понимаешь? Пусть тысячи людей погибнут, лишь бы ты была со мной». Но та не понимает, она думает только об одном – о папе, которого ее лишили в тот страшный день.