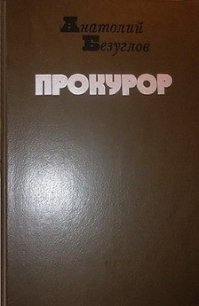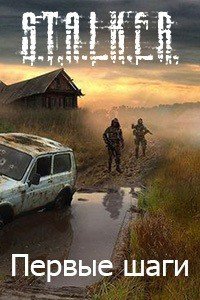Записки прокурора - Безуглов Анатолий Алексеевич (мир книг .TXT) 📗
От Бурназовой мы ушла не скоро. Она буквально заставила нас выслушать лекцию о классической музыке, сопровождая свой рассказ игрой на пианино.
Через несколько дней после посещения больницы Межерицкого Жаров снова пришёл поговорить о Домовом.
— Помня о том, — начал следователь, — что вы, знакомясь с материалами обыска у Митенковой, обратили внимание на отсутствие каких-либо документов о её брате, я назначил экспертизу семейных фотографий и портрета Домового… Не сходится. Не брат.
— А отец?
— И не отец.
— Эксперты утверждают это категорически?
— Абсолютно. Как ни изменяется внешний облик, есть приметы, которые остаются совершенно такими же. Расстояние между зрачками, линия носа и прочее… Тут все ясно.
— А красавец «люби меня, как я тебя»?
Константин Сергеевич замялся:
— Эту я даже не давал на экспертизу…
— Почему?
— Как вам сказать… Чуть, понимаете ли, не оконфузился. Уже написал постановление. Потом думаю, надо ещё раз выяснить у старых фотографов… Оказывается, такие снимки до войны были чуть ли не у каждой девчонки в Зорянске. Какой-то иностранный киноартист тридцатых годов. Вот и настряпали в том самом фотоателье No 4 их несколько тысяч. Бизнес… Раскупали, как сейчас Магомаева или Соломина…
Я рассмеялся:
— Выходит, девушки во все времена одинаковы…
— Наверное. — Константин Сергеевич на эту тему распространяться не стал. — В общем, подпольный жилец Митенковой не является ни её братом, ни её отцом. Это доказано. Кто же он?
— Он может быть кем угодно: дезертиром, рецидивистом, даже злостным неплательщиком алиментов… А у вас должны быть факты и улики только для одного. Понимаете, одного и исключающего все другие.
— Понимаю, — кивнул Жаров. — Вот для этого я сначала и хочу исчерпать версию, что Домовой — автор нот. — Следователь улыбнулся. — Будет и мне спокойнее, и всем…
— Спокойнее, беспокойнее… Истина безучастна к настроению. Она или есть, или её нет… Ну ладно, у вас есть предположения?
— Есть. Я звонил даже к Межерицкому, консультировался… Что, если Домовому показать эти произведения? Может быть, посадить за пианино… Если он автор, если он их создал, вдруг вспомнит и прояснится у него здесь? — Жаров очертил пальцем круг на своём лбу. — Давайте попробуем, а? Проведём эксперимент.
— Любопытно. Я ничего не имею против. Опять же только с согласия Бориса Матвеевича… Но пока Домовой не заговорил, вы должны заставить заговорить факты. Можно, например, узнать: как долго неизвестный прятался в доме Митенковой?
— Да, это возможно.
— Когда написаны ноты? По бумаге, к примеру…
— Это тоже. Трудно, но все-таки…
— И, конечно, основное: кто он?
— Все это так, Захар Петрович… Поговорите с Межерицким, прошу вас… Проведём эксперимент…
— Хорошо. Раз вы так настаиваете… — Я стал набирать номер больницы. — Но эксперимент экспериментом, а проверка должна идти своим чередом…
— Само собой, — с готовностью согласился Жаров.
В это время ответил главврач психоневрологического диспансера.
— Борис Матвеевич, я.
— Слышу, Петрович. Моё почтение.
— Тут у меня следователь Жаров…
— Звонил он мне.
— И как ты считаешь?
— Можно попробовать. Есть шанс убить медведя… Шанс маленький, не увидишь и под микроскопом, но все-таки…
Я посмотрел на Жарова. Он напряжённо глядел на меня, стараясь угадать ответ врача.
— А у вас пианино есть? — спросил я.
— У меня нет лишнего веника. Попробуй вышиби у хозяйственников хоть одну дополнительную утку…
— Придётся привезти…
— Утку?
— Нет, пианино, — рассмеялся я.
— Хорошо, что пайщик не моряк, — вздохнул Межерицкий.
— А что?
— Как бы я разместил в больнице море с пароходом?..
…На следующий день в палату к Домовому поставили наш семейный «Красный Октябрь». У нас он все равно стоял под чехлом. Жена удовлетворилась тем, что я сказал: «Надо».
Появление в палате инструмента — крышка его намеренно была открыта — на больного не подействовало. Он продолжал лежать на кровати, подолгу глядя то в потолок, то в окно.
Конечно, мы с Жаровым огорчились. Может быть, ноты, найденные у Митенковой, действительно не имеют к нему отношения?
Следователь провёл несколько экспертиз. Карандашом, найденным в сундуке при обыске, была записана одна из пьес. Карандаш — «кохинор», чехословацкого производства, из партии, завезённой в нашу страну в пятидесятом году. Резинка для стирания записей — тоже «кохинор». Удалось установить, что в наших магазинах такие карандаши и ластики продавались приблизительно в то же время.
Подоспел ответ по поводу нотной тетради. Она была изготовлена на Ленинградском бумажном комбинате… в сороковом году. Правда, тетрадь могла пролежать без дела многие годы, пока не попала в руки композитора…
…Прошло несколько дней с начала нашего эксперимента Неожиданно позвонила Асмик Вартановна:
— Захар Петрович, я хочу к вам зайти. По делу.
— Ради бога, пожалуйста.
Она вскоре появилась в моем кабинете со свёртком в руках. Это был альбом с фотографиями в сафьяновом переплёте.
Бурназова перелистала его. Виньетка. Какие хранятся, наверное, у каждого. Школьный или институтский выпуск. Сверху — каре руководителей Ленинградской консерватории в овальных рамочках, пониже — профессора, доценты, преподаватели. Дальше — молодые лица. Выпускники.
Под одной из фотографий надпись: «Бурназова А.В.»
— Молодость — как это уже само по себе очаровательно, — сказала старушка, но без печали. Она остановила свой сухой сильный пальчик на портрете в ряду педагогов. — Вот профессор Стогний Афанасий Прокофьевич. Вёл курс композиции. Ученик Римского-Корсакова, друг Глазунова. У меня сохранилось несколько его этюдов. Они чем-то напоминают музыку, с которой вы познакомили меня… Я все время думала. Перелистала все ноты. Просмотрела фотографии, письма. Не знаю, может быть, это заблуждение… И вас собью с толку…
— Да нет, спасибо большое, Асмик Вартановна. Нам любая ниточка может пригодиться.
Я вгляделся в фотографию профессора. Бородка, усы, стоячий воротничок, галстук бабочкой. Пышные волосы.
— Вы не знаете, он жив?
— Не думаю, — грустно ответила Асмик Вартановна. — Я была молоденькой студенткой, а он уже солидным мужчиной…
Да, вряд ли профессор Стогний жив. Впрочем, девяносто лет, как уверяют врачи, вполне реальный возраст для любого человека. Во всяком случае теоретически. А практически? Надо проверить.
Константин Сергеевич решил выехать в Ленинград. Он вёз с собой рукописи, найденные у Митенковой, и портрет Домового для опознания. Может быть, автор нот — действительно ученик профессора Стогния?
Больного сфотографировали в разных ракурсах. Одетый в костюм, он, по-моему, мог сойти за старого деятеля художественного фронта. Печальные, уставшие глаза… Межерицкий сказал: «Обыкновенные глаза психопата. Правда, Ламброзо считал, что все гении безумны…».
Жаров уехал. Отбыл из Зорянска и я. В область, на совещание. А когда вернулся, Константин Сергеевич уже возвратился из командировки. Доложил он мне буквально по пунктам.
Профессор Афанасий Прокофьевич Стогний умер во время блокады от истощения. Но супруга его, Капитолина Аркадьевна проживала в той же квартире, где потеряла мужа. Это была глубокая старуха, прикованная к постели. Фотография неизвестного ничего ей не говорила. Насчёт учеников её покойного мужа разговор был и вовсе короткий: за долгую преподавательскую деятельность в консерватории Стогний вывел в музыкальную жизнь десятки способных молодых людей. Вдова профессора всех их уже и не упомнит. Тем более Жаров не знал ни имени, ни фамилии того, кого искал.
По поводу произведений. По заключению музыковеда, доктора наук, они скорее всего написаны в двадцатые-тридцатые годы (было у нас предположение, что это несколько авторов) одним композитором. Жаров побывал, помимо консерватории, на радио, телевидении, в филармонии. Хотел попасть к самому Мравинскому, но тот уехал на гастроли за границу.