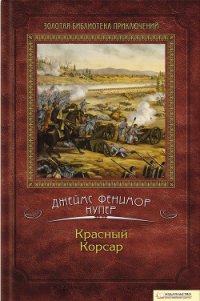Красный гаолян - Янь Мо (полная версия книги .TXT) 📗
Долгий плач в гаоляновом поле перемежался со словами через запинку: «Небо чистое-е-е, небо сине-е-е, небо пёстрое-е-е, братик мой родной, братик мой дурной, преставился-я-я, небо для сестрёнки обрушилося-я-я».
Должен сказать вам, что у нас в дунбэйском Гаоми женщины голосят по покойникам так же красиво, как поют. В первый год Республики [26] профессиональные плакальщики из Цюйфу, родины Конфуция, приезжали сюда учиться, как правильно оплакивать покойников. Бабушка почувствовала, что в такой радостный день встретить женщину, оплакивающую умершего мужа, — дурной знак. На сердце стало ещё тяжелее. В этот момент один из носильщиков подал голос:
— Эй, девушка в паланкине, поговори с нами! Дорого дальняя, скучно до ужаса!
Бабушка поспешно схватила красное покрывало, накинула на голову и потихоньку убрала ножку, придерживающую шторку. В паланкине снова воцарилась непроглядная тьма.
— Спой-ка нам песенку, мы же тебя несём!
Музыканты словно бы пробудились ото сна и яростно задудели; взвыла большая труба.
— Ту-у-у-у… — Кто-то из носильщиков впереди передразнил трубу, и с обеих сторон от паланкина раздался грубый хохот.
Бабушка истекала потом. Перед тем как она села в паланкин, прабабушка много раз повторила, что в дороге ни в коем случае нельзя болтать с носильщиками, мол, носильщики и музыканты — представители низких профессий, лживые странные типы, которые могут выкинуть любую гадость.
Носильщики с силой раскачивали паланкин, бабушкин зад ёрзал туда-сюда, а обеими руками она крепко держалась за сиденье.
— Даже не пикнешь? Трясите, ребята! Коли не вытрясем из неё ни звука, то хоть мочу выжмем!
Паланкин уже напоминал маленькую лодочку, попавшую в шторм. Бабушка мёртвой хваткой вцепилась в сиденье, в животе бултыхались два яйца, съеденных утром, мухи жужжали под ухом, горло сжалось, тошнотворный яичный запах ударил в нос. Бабушка закусила губу. Нельзя, чтобы тебя вырвало, нельзя! Бабушка приказывала себе: «Нельзя, чтобы тебя стошнило, Фэнлянь, говорят, что, когда невесту рвёт в свадебном паланкине, — это самый дурной знак, тогда всю жизнь счастья не видать…»
Носильщики стали говорить ещё грубее: некоторые поносили моего дедушку, малодушный, мол, человечишка, про каких говорят «при виде денег и у слепого глаза открываются», некоторые намекали, дескать, свежий цветок воткнут в навозную кучу, [27] а третьи заявляли, что Шань Бяньлан — прокажённый, истекающий гноем, мол, даже если просто встать за двором Шаней, то можно учуять смрад гниющей плоти, а во дворе у них толпами вьются зелёные мухи…
— Невестушка, ты не позволяй Шань Бяньлану до себя дотрагиваться, а не то сгниёшь заживо!
Трубы и соны выли и всхлипывали, яичная вонь становилась сильнее, бабушка ещё сильнее закусывала губу, в горло словно кто-то бил кулаком, и она не выдержала, стоило открыть рот, как из него фонтаном вырвалась рвота прямо на шторку паланкина. Пять мух пулей метнулись к рвоте.
— О, затошнило её! Трясите! — заорали носильщики. — Трясите! Рано или поздно растрясём её на разговоры!
— Братцы… пощадите… — горестно вымолвила бабушка в перерыве между рвотными спазмами, а потом заревела в голос. Бабушке было очень обидно, она понимала, что впереди её ждёт нечто опасное и до конца жизни не вырваться ей из моря страданий. Папа, мама… падкий на деньги отец, жестокосердная мать, вы мою жизнь сломали!
От бабушкиного рёва гаолян содрогнулся. Носильщики перестали раскачивать паланкин, музыканты, создававшие своими инструментами бурю и поднимавшие волны, перестали дудеть. Остался лишь бабушкин горестный плач, да вступила одинокая грустная сона, которая рыдает даже красивее, чем любая из женщин. Услыхав эти звуки, бабушка резко прекратила плакать, как будто бы прислушалась к голосу природы, внимая музыке, доносившейся словно с небес. Бабушкино припудренное личико увяло, покрытое жемчужинами слёз, в этой горестной мелодии она уловила звуки смерти, почуяла дыхание смерти, увидела смеющееся лицо божества смерти с такими же тёмно-красными, как гаолян, губами и кожей золотисто-жёлтого цвета зрелой кукурузы.
Носильщики замолчали, шаги их стали тяжёлыми. Завывания жертвы в паланкине под аккомпанемент соны разбередили их души — так весло нарушает покой ряски или дождь бьёт по траурному флагу с заклинаниями, призывающими душу. Процессия, двигавшаяся по узкой тропинке в гаоляновом поле, перестала напоминать свадебную, а походила теперь на похоронную. У носильщика, что был ближе всех к бабушкиным ножкам — моего будущего дедушки Юй Чжаньао, — душа озарилась странным предчувствием, которое вспыхнуло внутри, как пламя, и осветило дорогу впереди. Бабушкин плач пробудил в глубинах его души давно сокрытую там любовь.
Носильщики решили устроить в пути короткую передышку и поставили паланкин на землю. Бабушка от долгого плача была словно в тумане и сама не заметила, как выставила наружу маленькую ножку. При виде этой изящной, бесподобно красивой крошечной ножки носильщики забыли обо всём на свете. Тогда Юй Чжаньао подошёл, наклонился, легонько взял бабушкину ножку, словно неоперившегося птенчика, и осторожно вернул в паланкин. А в паланкине бабушка растрогалась от этого нежного жеста, ей безумно хотелось откинуть шторку и посмотреть, как выглядит носильщик, которому принадлежит эта огромная молодая ласковая рука.
Мне кажется, влюблённые, которым небо уготовило быть вместе, связаны навеки невидимой нитью и через тысячу ли, и это непреложная истина. Когда Юй Чжаньао взял бабушкину ножку, то в его душе пробудилось огромное желание построить новую жизнь, которое в корне изменило его судьбу, как и судьбу моей бабушки.
Паланкин снова подняли, сона издала протяжный звук, похожий на крик обезьяны, а потом умолкла. Подул северо-восточный ветер, на небе скучились облака, заслоняя солнечный свет, внутри паланкина стало ещё темнее. Бабушка слышала, как гаолян шелестел на ветру, шелест этот накатывал волнами и уходил вдаль. Где-то на северо-востоке загрохотал гром. Носильщики ускорили шаг. Сколько ещё оставалось до дома Шаней, бабушка не знала; так чувствует себя связанный ягнёнок: чем ближе смертный час, тем он спокойнее. За пазухой она спрятала острые ножницы, возможно, припасла их для Шань Бяньлана, возможно, и для себя самой.
Важную роль в истории моего рода играет ограбление свадебного паланкина, в котором ехала моя бабушка, в Жабьей яме. Жабья яма — это низина посреди низины, земля там особенно тучная, воды достаточно, и гаолян растёт особенно густо. Когда паланкин с бабушкой дотащили до Жабьей ямы, на северо-востоке небо пронзила кроваво-красная молния, обломки абрикосовых солнечных лучей с воем устремились к тропинке, пробиваясь сквозь густые облака. Носильщики запыхались и обливались горячим потом. Когда они оказались в Жабьей яме, воздух налился тяжестью, гаолян вдоль обочины потемнел, блестел как вороново крыло, гаоляновое море казалось бездонным, а дорога почти сплошь заросла дикой травой и цветами. Среди травы тянули тонкие длинные стебли васильки, распускались их фиолетовые, синие, розовые и белые цветы. В глубине гаоляна горестно квакали жабы, печально стрекотали кузнечики и жалобно подвывали лисы. Бабушка в паланкине внезапно ощутила порыв холодного воздуха, отчего кожа покрылась мурашками. Она ещё не успела сообразить, что происходит, как услышала громкий окрик снаружи:
— Хотите пройти — откупайтесь!
Бабушкино сердце ёкнуло, она не знала, то ли расстроиться, то ли обрадоваться. О небо! Им повстречался любитель кулачей!
В дунбэйском Гаоми разбойников было как грязи, они шныряли в гаоляновых зарослях, словно рыбы, сбивались в банды, чтобы грабить, похищать людей с целью выкупа, они без конца чинили всякие злодеяния, позабыв о добрых делах. Ежели испытывали голод, то ловили пару человек, одного оставляли в заложниках, а второго отправляли обратно в деревню, чтобы потребовать определённое количество тонких лепёшек по две пяди в длину, в которые заворачивали яйца и зелёный лук. Поскольку разбойники упихивали лепёшку с начинкой в рот обеими кулаками, то такие лепёшки стали именовать кулачами.