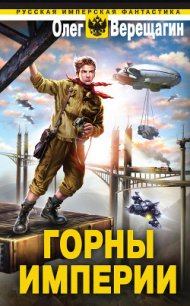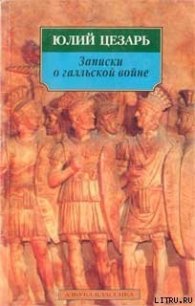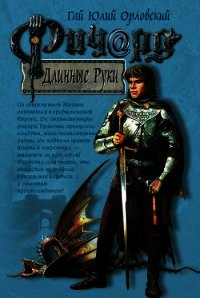Розовый куст - Файбышенко Юлий Иосифович (лучшие книги онлайн TXT) 📗
И вдруг, когда они проносились мимо, Климов глазам своим не поверил. Так вот оно что-о! Так вот оно что! Таня, Танюшка! И с кем?!
Да, это была Таня, любовь. Бывшая секретарша их управления. Тонкая, с нежно-смуглым овальным лицом, с начесанной на лоб темной челкой, большеглазая, затаенная в себе двадцатилетняя девчонка, возле которой вечно толпились парни из всех бригад. Но никому не повезло, и только ему, Климову, дважды удалось по нескольку часов смотреть в эти утянутые к вискам печально-понимающие, добрые, но и безжалостные своей добротой глаза. Нет, и Климов был третий лишний. Да он это и знал с самого начала.
Одесские джазники совсем сошли с ума, они не могли ни одного танца играть в одном темпе, они гнали всю кавалькаду по залу, как будто это уходила из-под выстрелов разбитая конница.
А он все искал этого чуть ссутуленного парня с завитой пшеничной укладкой и рядом с ним тонкую, с печально опущенными плечами, потухшими глазами, ту, единственную…
Кто-то, подойдя, стал рядом. Голос Стаса, перекрывая оркестр, сказал:
– Ты чего тут?
– По делу, – сказал он, не оглядываясь.
– Ну?
– Один из шайки Кота здесь.
– Кто такой?
– Красавец. Кроме клички, ни примет, ни зацепок.
– Поищем… В следующий раз придешь разговаривать во второй буфет, присядешь ко мне за столик…
– Да ладно, конспираторы… Филина видел?
– Видел. Он за это погорит.
Тустеп кончился. Толпа повалила к дверям. Стас исчез. Климов смотрел, как мимо него проталкивались пары. Полагалось после такой скачки смачивать горло в буфете. На эстраде суетился маэстро и за что-то разносил своих джазников.
Они проходили, краскомы в новеньких френчах, молодые, сияющие, нэпманы с их красавицами, студенты с их простоволосыми, коротко стриженными девчонками, но где же…
И вдруг увидел, как пшеничная укладка, выделяясь над остальными головами, двинулась к дверям. И вот они прошли. Какой измученный у нее вид, как белы ее щеки; где она, смугло-здоровая бледность тех времен, когда она сидела в приемной у Клейна; где дальний внезапный свет ее глаз? Словно повинуясь упорству его взгляда, ресницы ее затрепетали, она повела плечиками под блузкой и искоса взглянула на него, как-то виновато, как-то обреченно и умоляюще. Узнала – и тогда холодная, никогда раньше не виданная им надменность распрямила ее спину, она резко отвела глаза и прошла мимо него, далекая и недоступная, уже с увлечением слушая, что говорит ей рослый человек лет тридцати в коричневом костюме и желтых «шимми».
…Собрание, на котором все и произошло, до сих пор стояло перед его глазами во всех подробностях. Клейн как раз выступал по вопросу об утере революционной бдительности и зачитал циркуляр из Центророзыска о более решительной проверке кадров. Едва он кончил, как на сцену выскочил Селезнев и попросил слова. Он был сдержан, и только жесты, которых он не мог удержать, своей торопливостью указывали на его волнение и предчувствие торжества.
– Верные слова говорили, товарищ начальник, – сказал он, обращаясь к Клейну, – беспощадно надо пресекать! – Он остановился и вздохнул, чтобы сдержать ярость. Желваки явственно проступили на скулах, и лицо его с русой челочкой на лбу все напряглось. – Мировая революция не за горами, товарищи, – продолжал он, – и нам тут нянчиться некогда. Гражданка Шевич! – он посмотрел в зал, где в самом конце его, неподалеку от Климова, сидела, подперев кулачком подбородок, Таня, и она растерянно встала с добро-непонимающим, изредка появлявшимся на ее милом, смешливом лице выражением. – Пусть пройдет сюда! – уже не ей, а кому-то приказал Селезнев, и весь зал обернулся и смотрел на Таню, которая шла, чуть наклонив голову, с тем же непонимающим, но уже тревожным лицом. – Пройдите к столу! – сказал Селезнев, и Климов с инстинктивной враждебностью и ожиданием какой-то неприятности посмотрел в президиум, где молчаливо следили за Селезневым и Клыч, и начальник второй бригады, и сам Клейн. Он почувствовал, что, как весь зал, как Таня, как и он сам, руководство тоже терроризировано активностью Селезнева и тоже, готовясь к чему-то неприятному, ожидает разгадки всей этой сцены. – Я прошу, не откладывая, решить, как мы поступим с гражданкой Шевич, – медленно и весомо сказал Селезнев, – скрывшей свое дворянское происхождение и благодаря этому пробравшейся в розыск.
Таня, высоко вскинув голову, стояла прямая, оцепенелая и смотрела в зал. И зал на нее смотрел. Ее все знали и любили. Она второй год уже работала с ними. Все привыкли видеть ее тонкую, спешащую по коридорам фигурку, привыкли к стуку ее машинки, к ее смеющемуся юному лицу, к ее доброте, к возможности занять у нее на обед и даже забыть потом о долге (а ведь она жила скудно, это все знали). Так уж ведется, что доброта всегда оплачивает чужую наглость. Она была с ними, переживала их потери и победы, была даже раз на операции, и Клейн ее потом отчитывал за безрассудство… И вот она стояла перед ними уже в другом качестве, уже как враг, и, хотя Селезнев ничего еще не пояснил, всем было ясно, что за жестокостью этого невысокого человека с запавшими, горячечно светящимися глазами стоит какое-то знание.
– Кто по происхождению ваш отец, гражданка Шевич? – в ошеломляющей тишине спросил Селезневу а Таня, не отвечая, все так же смотрела в зал, и на белом лице ее проступало выражение горькой и отрешенной усмешки. – Ваш отец дворянин, – четко проскандировал Селезнев, – а в анкете, написанной вашей рукой, сказано, что отца своего вы не знали, но что он был трудового происхождения. Так или не так?
– Так, – сказала Таня, – я его не знала, он умер, когда мне было два года.
– Откуда у вас эти сведения, товарищ Селезнев? – официально спросил Клыч.
Клейн сидел рядом с ним, бледный и спокойный.
– Я допрашивал по делу Мальцева ее тетку – проходила как свидетель, – обстоятельно и уже не волнуясь, пояснил Селезнев, – она прямо сказала, что хоть сейчас и портниха, но сама дворянского происхождения. Даже, понимаешь, гордость этим проявляла. Тогда я вспомнил и спросил про самого Шевича, отца этой гражданки. Ну, и, конечно, он тоже дворянин. И теперь я обращаюсь к президиуму с просьбой проголосовать: может ли оставаться в нашем учреждении классово чуждый элемент?
Все молчали, а Таня все стояла впереди президиума и смотрела перед собой. Уже не в зал, а только перед собой.
– Прошу проголосовать! – настойчиво сказал Селезнев.
Клейн встал.
– Кто за то, чтобы гражданку Шевич вычистить из наших рядов как классово чуждый элемент?
Таня оглянулась на него с таким детским ужасом, что у Климова все оборвалось внутри. Вот так, должно быть, смотрела Красная Шапочка, когда вместо бабушки вдруг волк…
– Товарищи, – сказал Селезнев, яростно обводя глазами ряды, – сейчас не время миндальничать. Скрыла одно, потом скроет другое. Мы – розыск, и мы не имеем права, – он почти кричал, – не имеем права терять бдительность!
Таня стала спускаться по ступенькам, не ожидая, пока проголосуют.
– Кто за? – спросил Клейн и посмотрел в зал. И Селезнев тоже смотрел в зал. И Клыч.
Большинство подняло руки. И тогда, чуть замедленно, поднял руку Клейн. И только Клыч в президиуме не поднял руки.
– Кто против? – спросил Клейн, а Таня уже выходила.
Климов кинулся за ней, начал говорить что-то, она только взглянула – и он осекся, только повела плечом – и он отстал. А ведь тогда, на вечеринке, он поцеловал ее. Поцеловал, вобрал в себя трепет ее близкого тела, вдохнул ее запах, нежный, юный девичий запах…
Теперь это все не имело значения. Теперь для нее он был один из тех, из непонявших, из бывших друзей, в одно мгновенье, из-за одного слова ставших врагами…
…Стас дернул его за руку, и он очнулся. – Учудим штуку, – шептал, глядя на танцующих, Стас, – выгорит – можем выйти на Красавца.
– Нарушаешь конспирацию, – с трудом возвращаясь в действительность, проговорил Климов.
– Плевать, – Стас проследил загоревшимися глазами за вытекающей в двери публикой. – Во втором буфете сидит Куцый. Пьян в лоскуты. Если ему польстить, он должен про Кота что-нибудь брякнуть. Не любит шпана конкуренции, а рядом с Котом он – дохлая крыса. Точно говорю, надо попробовать его на эту наживку, а?