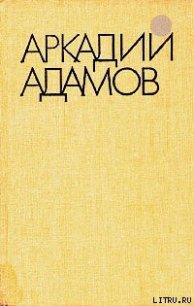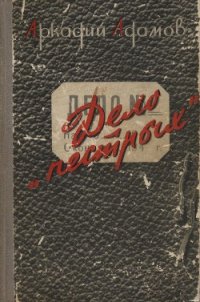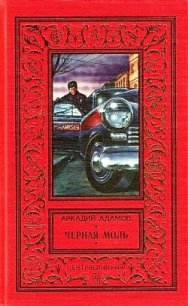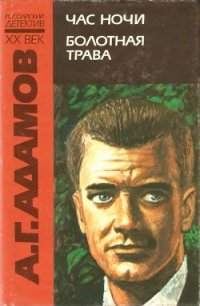Петля - Адамов Аркадий Григорьевич (мир бесплатных книг txt) 📗
Некоторое время мы молчим, словно приходя в себя после этой для нас обоих неожиданной схватки. Потом я спрашиваю:
— Скажи, Иван, честно, разве ты в котлован не спускался?
— Не… — трясет своей гривой он, не поднимая головы. — Я покойников боюсь.
Вздохнув, он выпрямляется на стуле и смотрит в сторону.
— А деньги? — снова спрашиваю я. — Как их поделили?
— Да никак. Федька дал мне две красненьких. Ну и…
— И сказал, — усмехнувшись, заканчиваю я, — что вы с ним теперь одной веревочкой связаны. Если его посадят, то и тебе сидеть. Так, что ли?
— Так…
— А ты ему поверил. А как же! Он небось уже под судом был. Уже все прошел. Ты и поверил, да?
— Поверил…
И в рыжих его глазах светится сейчас такая тоска, что лучше в них не заглядывать.
— Федьку ждет страшный суд, последний, — жестко говорю я. — Федька застрелил человека. И стрелял в другого, — я чуть не добавляю «в меня», но вовремя удерживаюсь. — Это бандит и убийца. У него ничего уже святого в жизни не осталось. Зверем живет. — Я невольно вспоминаю Анну Сергеевну, детский голос ночью из-за стенки, говоривший страшные, совсем не детские слова. — И дома он зверем был, — добавляю я.
— Федьку боятся, — соглашается Зинченко и вздыхает. — Сильно все боятся. Чего уж говорить. Пропащий он, видать.
— А вот ты не пропащий, — говорю я. — Ты еще можешь с четверенек подняться, на двух ногах стоять. Эх, Иван… Тебе настоящая любовь нужна. Не Надькина. Такая любовь только злость в душе копит. А тебе нужна любовь, которая добро приносит. К примеру, ты дочку любишь. Или мать. Это же добрая, светлая любовь, ты же сам чувствуешь. Ты еще встретишь женщину, которая тоже тебя так полюбит. Ты только встань на ноги, оглядись, себя покажи, чтоб тебя тоже за зверя не приняли. И тогда тебя тоже так полюбят. Дочка уж точно. И мать, конечно. Для них лучше тебя на свете и сейчас небось никого нет. Думай, Иван, думай. Ты ведь неглупый мужик. Совсем даже неглупый. И молодой. И сильный. Чего тебе еще? Ты же все сможешь…
Я чувствую, как сам волнуюсь, как мне больно за этого запутавшегося человека, за его несуразную, изломанную судьбу. Как мне хочется, чтобы он мне поверил. Почему, черт возьми, он поверил Федьке, почему он не может поверить мне? Какие слова для этого найти? Нет, он поверит! Он должен поверить. И послушаться тоже должен.
— …Послушай меня, Иван, — прошу я его. — Тебе недолго быть у нас. За тобой ничего нет, кроме этих краденых двух десяток, которые ты у Федьки взял. С тобой быстро разберутся. И как выйдешь на свободу, уезжай. Немедленно, понял? В деревню уезжай, к своим. Там тебя помнят ведь другим. Хорошим парнем помнят. Таким ты там опять и станешь. Вот увидишь. Дочка с тобой за руку по деревне пойдет. Люди с уважением здороваться будут. Ты же работать начнешь. У всех на глазах. А дальше будет видно. Ни в один город тебе дорога не заказана. Ты понял меня?
— Понял. Не пень…
— Ну вот. А мне, Иван, надо разбираться дальше. Мне надо выяснить, что же случилось с этой Верой Топилиной. Ты тоже слышал ее крик?
— Слышал…
— И никто потом не вышел к воротам?
— Не. Никто.
— А ведь с ней кто-то был… — задумчиво говорю я уже самому себе. — Кто-то был…
И мы снова молчим. Но это уже совсем другое молчание, чем прежде. Иван вдруг стал мне близок чем-то, даже дорог. Словно мы с ним вместе что-то пережили, помогли друг другу в тяжелый миг. И в душе Ивана что-то, мне кажется, откликнулось на мои слова, что-то стронулось с места. Он тоже взволнован. Не испуган, не озлоблен и насторожен, а взволнован. Однако мне сейчас совсем нетрудно вот так, при нем, думать вслух.
— Да, кто-то был… И еще, — перебиваю я самого себя, — мне очень важно знать, кому в ту ночь вы могли рассказать о смерти Веры Топилиной. Пока вот ты только эту самую Зинаиду Герасимовну вспомнил, так?
— Ага, — кивает Иван. — Язык-то у нас развязался, только когда выпили. Значит, после работы. А пока таскали да кидали, не до разговоров было. Спину наломаешь там будь здоров как.
— А выпивали, значит, втроем?
— Ага. Потом мы с Федькой спать завалились.
— Где?
— Да там же. В вагоне.
— А Зинаида Герасимовна?
— Ушла небось. Я уж и не помню. Здорово мы нахлестались.
— И вас оставила?
— А чего? Заперла кухню, буфеты. Не впервой ей.
— Давно, значит, знакомы!
— Ну! С прошлой зимы, считай.
— Может, она к хахалю своему пошла? Знаешь его?
— Ну, Валентин Гордеевич звать. Ревизор он. Только они, говорят, уже того… Разбежались. А может, и брешут. Но она, конечное дело, без мужика не может, — Иван усмехается. — И мужики без ней тоже.
— Что же, она среди ночи одна куда-то пошла? — с недоверием спрашиваю я.
— А чего такого?
Но мне это кажется сомнительным.
Громко звякает замок в двери. Заходит конвойный, обходит сидящего на табуретке Ивана и кладет мне на стол записку. Я читаю: «Звонил тов. Шухмин, передает, что гражданка Зверева Зинаида Герасимовна доставлена в отдел. Просит быстрее приехать. Она сильно ругается. Ст. сержант Ковалев».
Я невольно улыбаюсь и киваю конвойному.
Когда за ним закрывается дверь, я говорю Ивану, указывая на записку:
— Сообщают, что Зинаида Герасимовна у нас. Просят быстрее приехать. Ругается очень.
— Она концерты дает. Только заведи, — усмехается Иван. — Потом не отмоешься. Хоть и молодая.
— Поэтому я с тобой пока прощаюсь. А ты думай, Иван, думай. Очень тебя прошу.
— Ладно. Чего уж там…
— И еще. Постарайся вспомнить, куда Федька пистолет дел. Не дай бог, он еще кому в руки попадет, вроде Федьки. Представляешь, что может быть?
— Представляю…
— Тогда постарайся, ладно?
Иван кивает в ответ:
— Ну…
И я то ли по этому кивку, то ли по каким-то ноткам в его голосе догадываюсь, что он знает, где спрятан пистолет, и он скажет, обязательно скажет мне об этом при новой встрече. Ему нужно только время, чтобы решиться, окончательно решиться на такой шаг.
Мы прощаемся. Потом я звоню, и в комнату заходит конвойный.
Я уезжаю из тюрьмы с радостным ощущением одержанной победы, трудной и необыкновенно важной. Никакой самый успешный допрос не приносит такого удовлетворения. В данном случае я даже не могу сказать, что допрос был особенно успешен. Ведь ничего нового я по существу не узнал, или, точнее, пока не узнал. Но я добился неизмеримо большего, я наконец нащупал болевую точку в душе человека и, кажется, сумел этому человеку помочь, сумел его спасти. А ведь он вполне мог стать вторым Федькой Мухиным, бандитом и убийцей, но теперь им не станет, я уверен в этом. И еще я горжусь, ужасно горжусь самим собой. Я даже восклицаю про себя, чуть изменяя со школы запомнившееся, пушкинское: «Ай да Лосев! Ай да молодец!» И невольно улыбаюсь, поймав на себе недоуменный взгляд какой-то женщины в троллейбусе. Наверное, у меня смешной вид. У счастливого человека всегда, по-моему, немножечко смешной вид.
В своей комнате я застаю сердитого и в то же время смущенного Петю Шухмина. Его натянутая улыбка на круглом, добродушном лице выглядит не очень уместно, ибо сидящая напротив него женщина полна гнева и нисколько не скрывает своих чувств. Я еще из коридора слышу ее раздраженные возгласы.
Женщина оказывается высокой, статной, несмотря на излишнюю полноту, с несколько грубоватыми, пожалуй, чертами лица и резкими складками в уголках рта, изобличающими как возраст, так и суровый, властный характер. Губы у нее ярко-красные, а брови и ресницы густо-черные, эти два цвета и доминируют на широком желтоватом лице. Голос курильщицкий, с хрипотцой, особенно заметной всегда у женщин. На ней легкая и модная меховая шубка и кокетливая, из того же меха, шапочка.
— Я вам что, девчонка?! Не смеете, понятно вам?! — сверкая глазами, обрушивается она на Петю. — Все брось и беги за ним. Да я в семнадцать лет за таким не побежала бы!.. Безобразие!.. Арестовали, да?! Ордер предъявляйте! Вы свои беззакония бросьте! Не пройдет, ясно вам?! Где ордер?! На каком основании?! Хватают! Держат!..