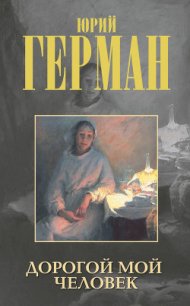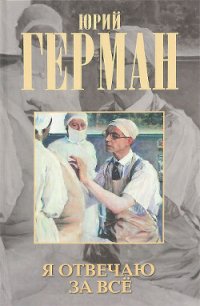Один год - Герман Юрий Павлович (книги онлайн полные версии .TXT) 📗
– На память, от друга, – сказал Жмакин, – бери, не обижай.
Она смотрела на него удивленно и сумку не брала.
– Бери, – сказал он почти зло.
– Да есть же у меня сумка, – кротко сказала Клавдия.
– Бери!
Он уже косил от бешенства.
– Задаешься?
Клавдия молчала.
– Фасонишь?
В голове у него шумело, он вздрагивал.
– В кухню пойдем, – сказала Клавдия, – морозно же!
– Либерализм! – крикнул он в сторону комнаты, туда, где по-прежнему спорили. – Да!
Клавдия засмеялась. А он вдруг заметил, что лакированный ремешок на сумке разорван. Неужели она еще не успела разглядеть?
– Не берешь подарок? – почти спокойным голосом сказал он. – Не надо!
И, мгновенно открыв дверцу плиты, сунул сумку в раскаленные оранжевые угли.
– От, крученый! – сказала Клавдия. – От, дурной! Ну, просто бешеный.
– Ладно! – величественно отмахнулся Жмакин, пошел в столовую и сел на свое место.
Все слушали Корчмаренко, который густым басом вспомнил империалистическую войну. Мазурские болота и ранения – дважды пули пробили ему легкое, в сантиметре одна от другой. Рассказывал Корчмаренко хорошо, совсем не жалостно, все точно видели, как полз он, раненый, умирающий, и как помогал ему тоже раненый, так и оставшийся неизвестным, бородатый солдат-сибиряк.
Жмакин налил себе водки, выпил и спросил:
– А кто из вас знает тайгу?
Никто толком не знал. А Жмакину страшно хотелось говорить. Он чувствовал, что у кафельной печки стоит Клавдия, так пусть же послушает и про него, про то, как жилось ему на этом свете.
– Все мы нервные, – сказал он, – все немного порченые. У кого война, у кого работа. Достижения тоже даром не даются. Вот, например, я – молодой, но жизнью битый и даже психопат. И сам знаю, а удержаться не могу. Прямо накатывает иногда…
– Ничего себе жильца подобрали, – подмигнул Корчмаренко Клавдии.
– Кроме шуток, – продолжал Жмакин. – Такие были переживания – не каждый выдержит. Работал на Дальнем Севере, и происходит, понимаете, такая история…
Он опять рассказал о побеге, о волках, о ночевках в ямах. Старуха тихонько плакала. Корчмаренко вздохнул. Жмакин не оборачивался, он знал, что рассказывает недурно и что Клавдия слушает и жалеет его.
– Еще не то бывает, – сказал он значительно и опять выпил.
Ему очень хотелось рассказать, как страшно и одиноко в Ленинграде, как он бежал от Лапшина, но то уже нельзя было рассказать, и тогда, таинственно подмигнув, он рассказал о себе так, как будто он был Лапшиным: как он, Лапшин, ловил Жмакина, и как он этого Жмакина поймал и привел в розыск, и как Жмакин просил его отпустить, и как он, Лапшин, взял да и не отпустил.
– И очень просто, – говорил Жмакин, чувствуя себя как бы Лапшиным. – Их не очень можно отпускать. Это народ такой. Вот у меня был случай…
И он рассказал про себя как про сыщика, как он, сыщик, ловил одного жулика по кличке «Псих», и как этот «Псих» забежал на шестой этаж, позвонил, проскочил квартиру, да по черному ходу – и поминай как звали.
– Ушел? – спросил Корчмаренко.
– И очень просто, – сказал Дормидонтов.
– Во, черти! – восторженно крикнул Корчмаренко, захохотал и хотел шлепнуть ладонью по столу, но попал в тарелку с растаявшим заливным и всех обрызгал. После этого он один так долго хохотал, что совсем измучился.
– Вы что ж, агентом работали? – спросил Алферыч, пронзая Жмакина озорным взглядом.
– Разное бывало, – отвечал Жмакин уклончиво.
Потом Корчмаренко играл на скрипке, и все сидели рядом на диванчике и слушали. А когда гости уже совсем собрались уходить, Корчмаренко предложил спеть хором, и Клавдия начала:
Спели и разошлись. Но Корчмаренко еще не хотел спать и не пустил Жмакина. Они сели за шахматы. Оба закурили и насупились:
– Спать, греховодники, спать, – говорила старуха, – слать!
– Ничего, завтра выходной, – бурчал Корчмаренко.
– Дай-ка, сынок, паспорт, – сказала она, – я утречком раненько сбегаю, да и пропишу.
Алексей хотел сказать, что паспорт у него на работе, но взглянул на Клаву – и не смог. Что-то в ней изменилось, он не понимал, что; она смотрела на него иначе, чем раньше, – не то ждала, не то усмехалась, не то не верила.
– Поднимись, принеси, – сказала старуха, – не то утром разбужу…
Уже поздно было говорить, что паспорт на работе. Жмакин сунул руку в боковой карман пиджака и вынул краденый паспорт, но все еще медлил, затрудняясь все больше и больше. Он даже не помнил имени в паспорте… Алексей открыл паспорт и прочел: «Ломов Николай Иванович». Теперь прописка.
– Чего ищешь? – спросил Корчмаренко.
– Да тут фотография была, – сказал Жмакин, – как бы не потерялась…
Он запомнил и прописку.
Старуха взяла паспорт.
Это была его верная гибель, то, что он делал. Через три дня, самое большее, его возьмут. Разве что Ломов Николай Иванович дурак и не заявил. Нет, конечно, заявил.
Он не доиграл партию и ушел к себе. Надо было спать. Три дня можно спать спокойно. А дальше – конец. Он разделся, лег. Сколько времени он не спал в постели? И тотчас же заснул. Но проснулся очень скоро, закинул руки за голову и стал думать. На мгновение ему даже смешно сделалось – хорошо, что не сунул старухе какой-либо женский паспорт спьяну, то-то бы дело было.
Ах, да что! Три дня у него есть верных. А это уже не так мало – три дня.
Пошли неприятности
Накрывая к завтраку, Патрикеевна рассказывала:
– Хотите верьте, хотите не верьте, но точно было, факт. Скончался, значит, один гражданин.
– Фамилия, имя, отчество! – жестко спросил Окошкин.
– Абрамов Григорий Фомич, – без запинки ответила Патрикеевна. – Сам он ветеринарный врач по мелким животным. Ну, известно, если которые люди собачку любят или кошечку, они над ней, словно бабушка над внучонком, ничего не пожалеют…
– Как вы нам, – сказал Окошкин.
Патрикеевна не удостоила его ответом. Лапшин брился, надувая одну щеку. Было еще темно, шел восьмой час утра.
– Значит, человек состоятельный, – продолжала Патрикеевна. – Ну, скончался. Конечно, отпели чин чином, а на кладбище уже гражданскую сделали панихиду, речи там – «спи спокойно, дорогой усопший товарищ» и всякое такое прочее, одним словом, как говорится, и на погосте бывают гости, – эти гости ночуют…
Лапшин слушал вполуха; все это время, преимущественно по утрам, вспоминалась ему встреча Нового года в театре, куда его потащил Ханин. Сидел Иван Михайлович рядом с Балашовой, напряженно улыбался, глядя на маленькую сцену, на которой артисты разыгрывали свой «капустник», зло высмеивая и самих себя, и пьесы, которые они ставили, и режиссера, про которого они говорили, что он у них «первый настоящий». Лапшину было неловко, он чего-то не понимал и совсем перестал что бы то ни было понимать, когда тот самый артист, который сказал про него, что он «фагот», полез вдруг с ним целоваться. Катерина Васильевна все время улыбалась своей неторопливой, умной улыбкой. Ханин грозился написать драму и пьянел, а Лапшину хотелось встать и сказать: «Знаете что? Давайте, прошу вас, перестаньте кривляться!»
– А хоронили его, надо знать, – продолжала Патрикеевна, – в новом костюме, ветеринара этого по мелким животным…
Она нарезала батон, заварила чай и села, выставив вперед ногу:
– Говорилось по-старому: пропели «Со святыми упокой», так всему конец, ан нет. Жил – почесывался, помер – свербеть хлеще стало. Пришли ночью воры и давай откапывать могилу, поскольку еще приметили на покойнике запонки из цветного металла, не скажу точно – из какого, врать не буду. Вот, конечно, раскопали, а он и не мертвый вовсе, заснул летаргическим сном. Стали с него пиджак стаскивать, он, конечно, матюгом их, привык с мелкими животными. Один вор от страха тут возьми и помри. А другие ему в ноги: «Простите нас, товарищ покойник, мы в ничего такого до настоящего дня не верили, извините нашу темноту!» Он их отпихнул, забрал свой пиджак, да давай поскорее к воротам, надеется еще на какой-либо ночной трамвай попасть. Попасть-то попал, да денег на билет ни копья, а главное, вид какой-то не тот у человека – зимой, знаете, а он без пальто и шапки не имеет, поскольку хоронить в шапках никто себе не позволяет. Кондукторша требует за проезд, ее, конечно, дело маленькое…