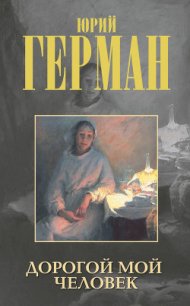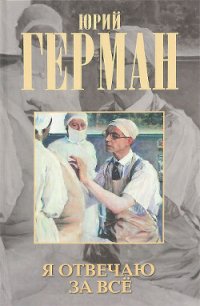Один год - Герман Юрий Павлович (книги онлайн полные версии .TXT) 📗
Он махнул рукой.
– Ну, ночуй! – сказал Лапшин. – Если так, то уж ночуй!
Сняв со стены гитару, он потрогал струны и запел украинскую песню с мягкими и печальными словами. Пел Лапшин плохо, врал и любил аккорды позадушевнее. Окошкин взял у него из рук гитару и, сделав лицо идиота, спел очень глупую частушку.
– Это да! – сказал Лапшин удивленно.
Потом Окошкин два дня сидел в засаде на Стремянной улице – поджидал жуликов, и Лапшин его не видел и не думал о нем. Но когда Васька явился, Лапшин обрадовался ему и терпеливо выслушал весь его рассказ о том, как ждали, как нечего было пить, потому что внизу ремонтировали водопровод, какие смешные и замечательные даже истории рассказывал «старик» Бочков, как «повязали» жуликов и какой «колоссальный» и «поразительный» «старик» Побужинский.
«Тоже – старики!» – подумал грустно Лапшин.
А из Окошкина в это самое время, как из прохудившегося мешка, вдруг посыпались блатные слова. Тут были и «болотник», и «колода», и «щипач», и «клифт», и «мокрушник», и «хавира», и «майдан», в общем, решительно все или почти все, что Василий успел запомнить за свою не слишком долгую деятельность в уголовном розыске.
Лапшин слушал молча, с выражением тоскливого недоумения на лице, потом резко прервал Окошкина и велел ему на веки вечные выбросить из своего лексикона всю эту пакость.
– Но специфика… – попробовал возразить Окошкин.
– Я вам такую специфику покажу, что небо с овчинку покажется! – багровея, крикнул Лапшин. – Здесь все этот язык получше вашего знают, но стыдятся его, а не хвастают жаргоном преступного мира. Мы здесь нормальным русским языком говорим и только в случае крайней необходимости расшифровываем то, что нуждается в расшифровке. Не опускаться до блатного языка мы должны, но заставлять преступника разговаривать здесь нормально. Ясно?
Ему на мгновение стало жалко загорелого Окошкина, только что такого веселого и довольного жизнью, а теперь подавленного и растерянного. Но, пожалуй, лучше, если Окошкину достанется от него, чем от кого-либо другого.
Почему?
Он не знал этого, как, впрочем, не знал и того, что успел привязаться к Окошкину, к его открытому сердцу, к его смешливости, неустроенности, чистоте, порывистой смелости, к его вере в людей. И, проводив глазами Василия, понуро уходившего из кабинета, Лапшин вдруг надолго задумался над грудой спешных и важных бумаг.
С силой и ясностью представился ему он сам, таким же молодым, как Окошкин, но неловким, что называется «деревенщиной», совсем почти неграмотным, с вечно сосущим, почти физическим голодом по «справедливости», которую осуществлял под руководством старых большевиков и молодых чекистов сначала в Петрограде, потом в Москве. Упрямо и с неимоверным трудом читал он тогда книги по судопроизводству и праву, ничего в них толком не понимая, потом понимая и отрицая, потом отрицая со злобой. Все старые законы и судебные установления казались ему обращенными в защиту сильных, в защиту богатых, в защиту тех, кто убил его отца. В те далекие дни, затягиваясь зеленым махорочным дымом, они – молодые чекисты на Лубянке и на Гороховой – впервые стали защищать мир угнетенных от мира угнетателей. Ошибаясь и нервничая, полуголодные и лихорадящие, они бешено спорили друг с другом, ощупью искали свою истину и в муках сами рождали ее. Речи Ленина и уроки каждого дня победившей революции, первый субботник и песня «Мы – молодая гвардия рабочих и крестьян», сочиненная комсомольцем Безыменским, – все обсуждалось чекистами в перерывах между допросами, очными ставками, арестами и обысками. Жизнь творила нормы поведения, вырабатывала еще неписаный кодекс новой справедливости, небывалой в мире.
Теперь все стало спокойнее. Ее, эту отвоеванную справедливость, надо только бережно охранять. Как-то справятся с охраной нового правопорядка парни вроде Окошкина, не испытавшие настоящего лиха, не знавшие того горя, которое знало поколение Лапшина!
«Справятся ли?» – спрашивал себя Лапшин. И отвечал: «Справятся, если учить по-настоящему. Чтобы действительно у каждого было горячее сердце, холодный ум и чистые руки!»
Несколько раз Вася Окошкин ночевал у Лапшина, потом как-то невзначай спросил:
– Иван Михайлович, а что, если я у вас немного поживу?
– Поживи немного, – сказал ему Лапшин. – Только гулянок у меня не устраивай, не люблю.
– Боже сохрани! – сказал Вася.
У него не было почти никаких вещей, зато была масса желаний: он хотел сшить себе сапоги, как у Побужинского, собирался купить велосипед, рассуждал, что бриться нужно самому, а для этого необходим бритвенный прибор, хотел купить настольный вентилятор, зажигалку, охотничье ружье и уйму других вещей. Как все люди, страстно желающие чего-либо, он научился быстро и ловко оправдывать каждое свое желание. Так он говорил, что велосипед экономит время и развивает мускулы ног, которые у него, у Васьки, почему-то ослабли; бритвенный прибор ему был нужен для экономии, чтобы не бриться в парикмахерской; настольный вентилятор, по его мнению, обеспечивал очень высокую производительность труда в жаркие летние дни; зажигалка экономила деньги, затрачиваемые на спички, и т. д. Все эти рассуждения очень утомляли Лапшина, и, когда Васька начинал болтать о своих мечтах, Лапшин ему говорил: «Отвяжись!» – и ложился на кровать лицом к стене. Мечты оставались мечтами: Васька получал немного, половину из каждой получки отдавал сестре, а остальное растрачивал с жаром и рвением в два-три дня. Деньги жгли ему руки, он обожал дарить и покупал все, что подворачивалось под руку: мундштук, камеру для футбольного мяча, носовые платки, распялку для костюма, ароматическую бумагу «Фиалка», комплект журнала за прошлый год и прочее в таком же роде.
– На, товарищ Лапшин, – говорил он, вынимая из кармана коробочку мятных лепешек. – Это тебе!
– А чего это?
– Такие штучки, – говорил Васька, – для освежения во рту.
– Да у меня во рту и так свежо, – отвечал Лапшин, недоуменно вертя пальцами коробочку. – Что тебе в башку взбрело?
За стол и квартиру Лапшин у Васьки ничего не брал, и Васька в благодарность покупал «для дома» то чайное полотенце с петухами, то зубную пасту, то дорогих папирос или ветчины. Васькино присутствие причиняло Лапшину много хлопот, но это не раздражало его, наоборот, ему нравился тот шумный беспорядок, который Васька удивительно быстро создавал вокруг себя. Изводили Лапшина только вечные телефонные звонки, которые начались вслед за Васькиным въездом. Звонили всегда только женщины, и так как ни Васьки, ни Лапшина днем дома не бывало, звонили ночью. Телефон висел над кроватью Лапшина. Сонный, он снимал трубку, и женский голос спрашивал:
– Васеныш?
Они давали Окошкину каждая свое имя, и поэтому Лапшин никогда не понимал, кого спрашивают.
– В чем дело? – кричал он, раздражаясь. – Кого вам надо?
Васька просыпался от крика, но не подавал признаков жизни, надеясь, что как-нибудь обойдется без него и что ему не придется вставать.
– Какой вам номер нужен? – надрывался Лапшин.
Женщина, пугаясь, вешала трубку, а Васька говорил:
– Постоянно телефонная станция путает номер. Экое безобразие…
Если же голос в трубке объяснял, что Васюрка, или Вавка, или даже Котик – на самом деле Окошкин, то Ваське приходилось вставать с постели, и тогда он томительно долго болтал над головой Лапшина, не давая ему заснуть и раздражая его до того, что Иван Михайлович кричал:
– Ты дашь мне спать или нет, черт паршивый? Третий час ночи! Нашел время…
– А я виноват? – огрызался Васька, закрывая ладонью трубку. – Чего вы орете?
Утром он оправдывался и говорил, не глядя в глаза Лапшину:
– Ей-богу, Иван Михайлович, она по делу. Это моей сестренки подруга Катька Осокина. Не знаете?
– Не знаю, – мрачно отвечал Лапшин.
Но наступал день с работой и делами, Васька являлся в кабинет к Лапшину с докладом, стоял перед столом смирно и докладывал, и говорил уже «не товарищ Лапшин», а товарищ «начальник», и выяснялось, что дело, которое он вел, шло блистательно, а главное с легкостью, без пота, бестолковой беготни, без многословия и проволочек – одним словом, шло так, как должно было идти в бригаде Лапшина. И Лапшину делалось жалко Ваську, и он говорил ему что-либо примиряющее, но строгое, например: