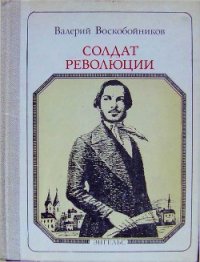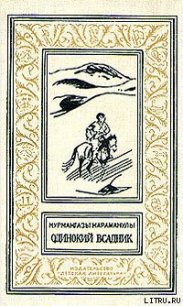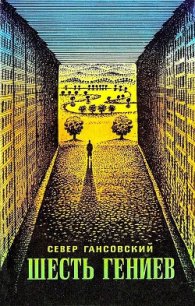Мы вернемся осенью (Повести) - Кузнецов Валерий Николаевич (читать бесплатно полные книги TXT, FB2) 📗
— Скорее... Слышишь, Катька! Под койкой... подними доски. Там — ход. A-а... Кто дурак? Брагин? Смотри! Жив буду — озолочу... Перед богом — женой будешь! Вот... их благородие не догадались обыскать... побрезговали... — он схватил ее руку и надел на палец скользкий от крови перстень. — Вот только меня сперва...
Брагин все быстрее шарил руками. Вдруг изо рта хлынула кровь, он завалился на бок, да так и замер, неудобно подобрав под себя руку.
Теряя сознание от боли в голове, почти ничего не видя и задыхаясь от дыма, Катерина подползла к кровати. Ломая ногти, попыталась поднять одну доску, другую. Третья поддалась. В лицо пахнуло душной, прохладной сыростью...
Голубь стоял, кусая губы, глядя на легкий дымок, курившийся над пепелищем. Теперь стало ясно: Казанкин говорил правду. Кто-то ловко подкузьмил его этой запиской. Но кто, Масленникова или Жернявский? Ни той, ни другого в Ачинске нет. Испарились. Исчезла Серова. И Брагин исчез. Подопригора убит. А виновник всему он — Голубь.
— Что глядишь невесело?
Голубь угрюмо посмотрел на подошедшего Коновалова.
— Чему веселиться? Сашка меня, наверно, до последней секунды ждал...
— Не казни себя, Тима, — Коновалов тронул его за плечи. — Ты не Иисус Христос. В записке было сказано, что Брагин в Ачинске. Да и с Казанкиным если бы не разобрались... Ты об этом зимовье от кого узнал? От Казанкина. Об участии Брагина в березовском налете? От него же. А если бы мы его не раскололи в ту же ночь? Сейчас хоть факты можно предъявить.
— Кому предъявлять, костям вон тем? И что предъявлять? Гори оно огнем — предъявление это... — Голубь кивнул в сторону пожарища.
На обратном пути Голубь неожиданно подъехал к Коновалову.
— Я подам рапорт Васильеву.
— О чем?
— Об увольнении.
— Ты сдурел!
— Я уйду из уголовки, Коновалов. Сашкина смерть на моей...
— Интеллигент вонючий! — заорал Коновалов. — Гимназист! Уксусу выпей — еще красивше будешь. Думаешь уволишься — Сашка оживет? А ты... Я знаю, почему ты заныл. Служебного расследования боишься. Заранее штаны снял: виноват, мол, сознаю и прошу уволить. Эх, Тима, я-то думал, у тебя кишка покрепче.
— Нормальная у меня кишка, не кричи, — ответил Голубь, собирая поводья. — А из милиции я уйду. Не могу я за свою глупость человеческой жизнью расплачиваться. Тяжело это, Коновалов. Я тебе объяснить не могу...
Коновалов помолчал, потом сухо и почти спокойно сказал:
— Хочешь уходить — на здоровье. Поминки устраивать не буду. Сашке устрою, а тебе — нет. Разными путями вы из милиции уходите.
В семи верстах от Парново обнаружено сгоревшее зимовье и в нем останки двух человек. Установить их не представляется возможным ввиду сильного обгорания. Есть основания предполагать, что останки принадлежат двум членам банды Брагина. Сам Брагин, видимо, скрылся со своей сожительницей Масленниковой, так как по месту жительства последняя не обнаружена.
Эпилог
— Голубь! К телефону.
— Здорово, начальник! — услышал Виктор в трубке знакомый насмешливый голос.
— Реук! Ожил, бродяга! — закричал он. — Ты откуда звонишь?
— Снизу, с вахты. У вас тут порядок, как на мясокомбинате. Пройти нельзя. Ты спуститься можешь? Давай где-нибудь посидим, все равно уже поздно. Или ты занят?
Они пошли в кафе недалеко от управления. Здесь было пусто, продавщица ушла в подсобку и гремела там ящиками.
— Лежал я четверо суток без сознания, ощущение — будто ночку хорошо поспал... А потом начал летать.
— Как это?
— Лежу на кровати, а кажется, что она поднимается вертикально — ну, и я, естественно, с ней. И такое ясное ощущение, что хватаешься за кровать, чтобы не выпасть. Кормили по-царски: двадцать пять граммов бульона и двадцать пять граммов воды. Правда, есть не хотелось.
— Бедный ты, бедный! — Голубь жалостливо посмотрел на друга. — Что, больше нельзя было?
— Он мне подвздошную кишку порвал, — объяснил Реук, — желудок и еще что-то. Понимаешь, мы когда из вертолета вылезли, Сергеева уже в партии не было.
— Я с ребятами к зимовью подошел — тишина. Участковый к окну встал, а я в дверь стучу. Опять тишина. Я дверь толкнул — она медленно так открылась. Стою, ничего не понимаю: нет его, что ли? Или спрятался? И уже в какую-то секунду до выстрела увидел в щели двери ствол. Ну, кинулся, конечно, в сторону... Выстрели он из «тозовки» — я бы царапиной отделался. А там — жакан! Но тебе я тоже не завидую, — усмехнулся Реук.
— Это когда Сысоева откопали? Завидного, конечно, мало. Лидка в обморок упала. А потом — началось. Она кричала на всю улицу, как только Сергеева не называла. Проболталась, что Сергеев паспорт убитого берег для себя.
— А тот?
— А что тот? За ним в Минске убийство, ты лежишь, неизвестно, на каком свете — и тут еще Сысоев. Семь бед... Скрипел на нее зубами, потом уж взмолился: уберите эту тварь, пока я ее не пришил, сысоевские деньги-то вместе делили... Лидка, как услышала, аж взвыла: врешь, я не знала, что он в погребе! Сергеев ей: зато все остальное знала! Словом, нашли друг друга: носок да рукавичка — и оба шерстяные.
— Да, — вздохнул Реук, — весело время провели. Да ко всему еще и дома горе. Долго не забуду.
— Как дома? Ты же холостяк?
— А помнишь, мы на Туркане к бабке заезжали? Баба Катя. Она еще до войны мать мою удочерила, а после ее смерти меня на ноги поставила. Я ведь рано осиротел. Ну вот, а пока я в больнице валялся, она ко мне ездила — это осенью-то с Туркана, при ее возрасте. Простудилась, конечно. Схоронил я ее недели две назад. Последние дни от нее не отходил. Бредила, какую-то избушку вспоминала, пожар, тайный лаз... И почему-то к этому делу приплетала все время тебя и какого-то Брагина.
— Меня?
— Тебя. Вроде как ты ее должен от кого-то спасти... Бред, одним словом. Когда в себя пришла, я у нее пытался выяснить, о чем она бредила. Она улыбается и молчит. Я еще ей напомнил, как она тебя звала. Пошутил, уж не влюбилась ли ты, бабка, в Голубя. А она — и впрямь: перстень сняла с пальца (у нее шикарный перстень, сколько себя помню, носит) и мне подала. Передай, говорит, Голубю своему, скажи от Катерины Масленниковой память.
Реук вынул из кармана комок бумаги, развернул его.
— Держи бабкин подарок.
Голубь с удивлением рассматривал серебряный перстень старинной работы. На внутренней стороне ободка он различил какие-то буквы. Он повернул перстень к свету и прочитал, видимо, давно выцарапанную и полустертую временем надпись: «БРАГИНЪ».
— Больше она ничего не говорила?
— Про твоих родителей спрашивала, не из Ачинска ли.
— Родители? — Голубь пожал плечами. — Нет. Дед у меня жил одно время в Ачинске. В двадцатые годы еще. Может, она его знала?
— Он у тебя кем был?
— Дед у меня был боевой! Комсомолец двадцатых годов. В ЧОНе за бандами гонялся, в милиции работал. Только недолго. Что-то там у него случилось: бандита какого-то упустил, а тот потом застрелил его друга... Или наоборот: сперва бандит застрелил его друга... Что-то в этом роде. Словом, ушел он из милиции. Я это из материнских рассказов знаю, отрывочно. Дед-то у меня не из говорливых был.
— Ну, а я о бабе Кате и того меньше знаю.
— Вот и спросил бы, пока с ней сидел.
— Я же говорю, спрашивал. Она сперва отмалчивалась, а потом сказала, что за свои грехи сама перед богом ответит. Еще что-то из писания мне цитировала, я точно забыл, а смысл помню. Что-то вроде: блажен тот, кто ни хрена не знает.
— Может, она и права, — проговорил Голубь, глядя на перстень. — Только, кажется мне, что бабке твоей было о чем рассказать. Впрочем, сейчас уже все равно.
Они расплатились и вышли из кафе. Стемнело. Сквозь пелену мелкого осеннего дождя виднелись желтые расплывчатые круги фонарей.