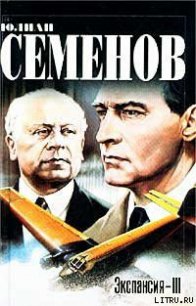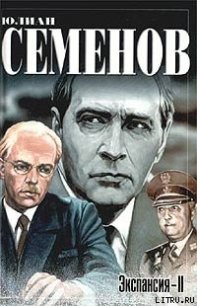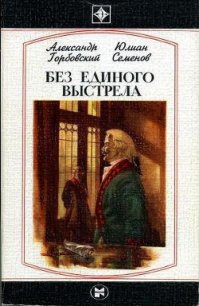Экспансия – I - Семенов Юлиан Семенович (серия книг TXT) 📗
…Последнее слово он писал сам, не подпуская Штамера; хватит, и так слишком много ошибок было допущено, слишком точно он следовал его советам — не отрицать очевидного, сосредоточив свое ораторское умение на доказательстве основополагающего незнания подробностей. И ни слова о Гитлере! Хватит выгораживать его, в этом смысле Штамер прав. В конце концов я был преемником, так пусть судят о том, каким мог стать национал-социализм, если бы именно я пришел к власти. Я! Я! Я! Пусть глумятся над этим самым коротким словом, пусть! Нет ничего прекраснее и конкретней, чем «я»!
…Когда ему предоставили последнее слово, он заговорил (снова он видел себя со стороны, словно был режиссером будущего фильма, и снова был доволен собою) неторопливо, скульптурно вылепливая каждую фразу:
— В качестве доказательства того, что я должен был знать и знал обо всем, что происходило, приводят тот факт, что я был вторым человеком в государстве. Обвинение не приводит никаких документальных материалов там, где я оспариваю под присягой, что знал о чем-либо или стремился к совершению этого. Мы слышали здесь, что самые тяжкие преступления были совершены тайным образом. Должен заявить, что я самым строгим образом осуждал эти убийства, и что я до сих пор не могу постичь, при каких обстоятельствах они были совершены. Утверждение господина Додда, [50] что я приказал Гейдриху умерщвлять евреев, лишено всякого доказательства. Нет также ни одного приказа, который бы я дал или который был бы подписан по моему приказанию о расстреле летчиков противника… Вероятно, из числа наших противников нет ни одного руководящего деятеля, который в течение последних двадцати пяти лет не выступал бы и не писал подобное тому, что вменяется в вину нам. Изо всего того, что происходило в течение четверти века — совещаний, речей, законов, действий, — обвинение делает вывод об имевшейся якобы последовательности, будто с самого начала все было запланировано именно таким образом. Это лишенное всякой логики обвинение когда-либо будет исправлено историей. Господин Джексон заявил, что нельзя судить и карать государство и что ответственность за действия последнего необходимо возлагать на руководителей. Однако ни одно государство никогда — путем вручения ноты — не обращало внимания империи на то, что деятельность в этой империи в духе национал-социализма будет подвергаться судебному преследованию. Если сейчас отдельных лиц, в первую очередь нас, руководителей, привлекают к ответственности и хотят судить — пусть будет так! Но нельзя судить нацию. Немцы доверяли фюреру и при его тоталитарном образе правления не имели никакого влияния на события… Я не хотел войны и не способствовал ее развязыванию. Я отвечаю за то, что сделал. Я, однако, самым решительным образом отметаю то, что мои действия диктовались волей и стремлениями порабощать чужие народы путем войны, убийств, грабежей, зверств или преступлений…
Он был доволен собою до сегодняшнего дня, он и сейчас продолжал быть удовлетворенным своей позицией, продолжая мысленно играть самого себя в том будущем фильме, который снимет в его честь нация, но постоянно ощущал некоторую скованность в мыслях, ибо, как только позволял себе вспомнить допросы Франка, Кальтенбруннера, Кейтеля, Штрайхера, Розенберга, их путаные трусливые показания, их желание перевалить ответственность на фюрера и, таким образом, на его преемника, отчаяние охватывало Геринга, и он начинал понимать, что прекрасному слову «я» всегда и всюду, каждую минуту противостоит чудовищное, безликое, неуправляемое слово «они».
…Он проснулся ночью счастливым, ощутив на щеках слезы радости, потому что совершенно явственно увидел молодые открытые лица юношей. Голубоглазые, белокурые, рослые, истинные немцы нордического типа, они говорили о том, что послезавтра будет, наконец, осуществлено нападение на тюрьму, снята охрана и он, Герман-Вильгельм Геринг, обретет свободу, исчезнет на какое-то время, чтобы заявить себя в недалеком будущем, когда придет время восстать из пепла, словно дивная птица Феникс, и стать во главе борьбы с ордами большевиков, очистив теорию и практику национал-социализма от того, что не выдержало испытание временем…
Он явственно слышал, как старший юноша излагал план захвата тюрьмы; пятьдесят смельчаков легко перещелкают всех этих сытых и беспечных америкашек, только бы не дать ворваться в камеру тем, кто дежурит на этаже; дверь стальная, пуленепробиваемая, он удержит ее; главное — продержаться; все решают самые последние минуты, секунды, доли секунды; я навалюсь всем телом на эту дверь и буду молить провидение об удаче моих мальчиков, рыцари всегда побеждают, отвага матерь успеха, ах, ну, скорее же, скорее!
Геринг лежал, открыв глаза, ощущая слезы на щеках; он не двигался, чтобы охранник, который должен смотреть за ним в глазок неотрывно, не заметил, что он проснулся.
Огромная, давящая тишина была в тюрьме, тишина, от которой веяло непереносимой, гнетущей, сырой безнадежностью.
Он прикоснулся кончиком языка к тому зубу мудрости, который доктор не позволил ему удалить, потому что именно в нем он был намерен оборудовать тайник для капсулы с крохотным кристаллом цианистого калия; смерть безболезненна, мозг вычленит изо всей той непознанной какофонии чувств и ужасающих представлений лишь острое ощущение осени, запах обжаренного в соли миндаля; никакой боли; не будет этих страшных шагов, последних шагов по земле, когда тебя поведут по коридору и ты станешь молить бога, чтобы этот коридор был длинным-длинным, нескончаемо-длинным, пусть бы ты шел и шел по нему, существует ведь бесконечность, отчего же не заставить ее — всей силой своего разодранного в клочья представления — сделаться явью в тот день и час, когда свершится то, о чем сегодня сказали в суде, сказали живые люди, которые могут ходить по улицам, звонить по телефону, сидеть в ресторане, любоваться цветением подснежников, напускать воду в зеленую ванну, сидеть в сортире, не ощущая на себе глаз надсмотрщика, и, сказав это, они не содрогнулись от того, что предрешили участь подобных себе, сидевших по другую сторону скамьи, живых, братьев своих земных во плоти, как же жесток этот мир, боже, спаси меня, дай мне сил отколупнуть кончиком спички золотую пломбу, лишь я знаю, как это можно сделать, но ведь это так невыносимо-жутко! Нет, надо ждать! Набраться сил и ждать, ведь белокурые, голубоглазые мальчики заканчивают подготовку того дела, которое принесет мне свободу, и я почувствую на своем лице капли осеннего дождя и вдохну всей грудью воздух свободы! Ждать! Нет ничего страшнее ожидания, но ведь и ничего прекраснее его нету, потому то слово ожидание сродни по-детски чистому и понятному каждому слову надежда. А если я заболею? — спросил он себя. Они ведь не станут казнить больного? Я могу болеть год и два, я скажу, что у меня отнялись ноги, не потащут же они меня на эшафот?! Это невозможно! Так не поступают мыслящие существа! Они не вправе быть столь жестокосердными, они не вправе, они не вправе, не вправе…
Он вдруг близко-близко увидел зеленоватые, чуть навыкате, глаза фюрера и услышал его голос, он не разобрал слов, но ощутил в себе давно забытый страх; он избавился от этого угнетающего чувства постоянного страха только здесь, в камере тюрьмы, он ощутил себя борцом в зале суда, он более не боялся окрика, он, рейхсмаршал, постоянно представлял себе, что Гиммлер может сделать с ним, его женой и детьми, и поэтому он всегда был таким, каким нравился фюреру, боже ты мой, неужели миром движет не разум, а страх, один лишь маленький, ужасающий, точащий тебя, словно червь, теплый и затхлый страх?!
Нет, сказал он себе, это не страх! Я никогда не был трусом! Меня обвиняли в чем угодно, но только не в трусости… Доброта, нас всех погубила доброта и мягкосердие, вот в чем корень случившегося! Мы сами провели грань между всеми нами и Гитлером, назвав его фюрером. Мы говорили себе, что порядку угодна личность, которую нужно создать. Ведь можно же, можно было создать Штрассера или Рема! А почему не меня?! А создав из Гитлера легенду, именуемую фюрером, мы не смогли переступить в себе немца: безусловное почитание того, кто стоит ступенью выше! А когда я понял, что мы катимся в пропасть, я уже не мог найти в себе силы открыть правду несчастному трясущемуся существу, я боялся, что мои слова разорвут сердце Гитлера, я жалел его, потому что он воплощал в себе наше общее начало, молодость и чистоту замыслов. Если бы я был не так добр и нашел в себе силы открыть ему глаза на происходящее, не опасаясь причинить ему боль, все могло бы пойти по-другому, все, абсолютно все!
50
Додд — обвинитель от США.