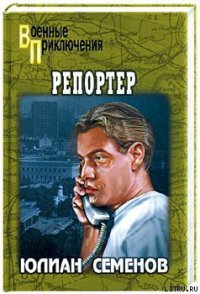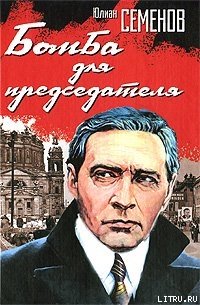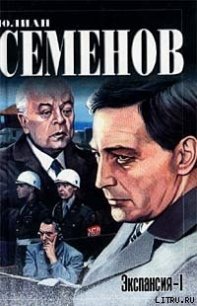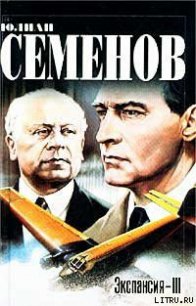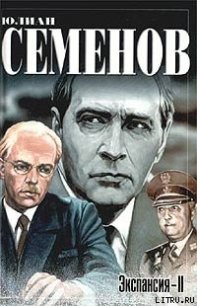Бриллианты для диктатуры пролетариата - Семенов Юлиан Семенович (книги онлайн полные версии бесплатно TXT) 📗
— Шрамами.
— У вас есть заключение медицинского эксперта, что шрамы появились уже после вашего ареста?
— Нет.
— В таком случае господин Шварцвассер или тот, кого вам будет угодно привлечь к суду, обвинит вас в лжесвидетельстве. Он станет утверждать, что это старые шрамы. Кто может свидетельствовать в вашу пользу?
— Стены и пол.
— Это звучит жутко, но этого, увы, мало.
— Вы отказываетесь принять дело к слушанию?
— Если вы настаиваете, я приму дело к производству и назначу судебное следствие.
— Только этого я и хотел. Благодарю вас.
— Вот, извольте заполнить эту табличку — номер вашего паспорта, каким участком выдан, срок, место жительства и прочая, видимо известная вам, формальность…
— Паспорт выдан мне не участком, а комиссариатом иностранных дел в Москве.
— Вы гражданин Совдепии?
— Я гражданин России.
— Я не могу рассматривать дело, которое возбуждает иностранец против политической полиции. Это может вам разрешить лишь министр юстиции. Мне сдается, он разрешит… Он интеллигентный человек, я просил бы вас поначалу обратиться к нему.
В эстонские газеты Никандров не пошел — он помнил свою первую пресс-конференцию в «Золотой кроне».
Он зашел на телеграф и, собрав последние деньги, отправил телеграмму в Париж по адресу, который он тоскливо и со слезами повторял в тюрьме:
«Жюль Бленер, Рю Бонапарт, 41, Париж, Франция. Освобожден из эстонской тюрьмы. Жду помощи. Ревель, до востребования, Никандрову».
Жюль Бленер не сразу вспомнил, кто такой Никандров, а вспомнив, подивился тому, как могли этого русского упечь в тюрьму эстонцы.
«Хотя с его платформой панславянского гуманизма и космополитизма, — только у русских может быть такой разнозначный комплекс, — вполне могли бросить за решетку».
Тем не менее Бленер решил помочь Никандрову и позвонил в то издательство, куда он передал книги русского.
— Жюль, это не подходит, — ответил ему владелец издательства «Републикэн» Ив Карра. — Это не лезет ни в одни ворота. Если бы он был коммунистом и звал жечь Шекспира, я бы его издал — это экзотично, это купят мальчики из Латинского квартала. В перерывах между гомосексуальными пассами они любят поболтать о революции. Если бы твой Никандрофф был монархистом и расстрелял хотя бы одного комиссара — я бы издал и это. Объективизм — бич литературы. Писатель обязан быть эгоцентриком. Не его дело искать гармонию правды; пусть этим занимаются Клемансо и Чичерин. Он слишком изящен для того, чтобы его поняли. Писать сейчас надо грубо и обязательно интересно. Особенно русским, им есть о чем писать. Нет, Жюль, прости, я ничем не смогу помочь.
Три ночи Никандров ночевал на вокзале, одну ночь — в парке. Каждый день он приходил на телеграф, но ответа из Парижа не было. Он потолкался на базаре — думал обменять пальто на еду, но пальто его никого здесь не интересовало, творог и свинину продавали за марки, и всякие попытки Никандрова уговорить крестьян сойтись баш на баш кончались тем, что его, высмеивая, гнали от рядов. Первые два дня это унижение доставляло ему какое-то острое, мучительное наслаждение.
Вспомнив Боссэ, он пошел к ней, но ему сказали, что мадемуазель Лида уехала на гастроли в Европу.
На пятый день Никандров уж и не ждал получить никакого ответа. Он спросил девушку в окошке телеграфа — сонно, тихим голосом; ему все время хотелось спать, но стоило только заснуть, как сразу же начинали видеться омерзительные картины — то он пьет молоко из грязного, гулкого бидона и молоко льется ему за ворот; то он ест мясо и вокруг него жужжат зеленые мухи, садятся на сало и лезут ему в рот, а то он большими глотками пьет водку и в желудке становится жарко и больно…
— Вам телеграмма, — равнодушно сказала девушка и протянула ему голубенькую бумажку.
Никандров разорвал полоску шершавой бумаги трясущимися руками и прочел:
«Какой помощи вы от меня ждете? Отвечайте через месяц, сейчас я уезжаю в Берлин. Бленер».
28. Дело, которому служат
Дверь трехкомнатного люкса открыл секретарь Маршана — громадный, жилистый Робер Вилла, полуитальянец, боксировавший в молодости за сборную Марселя.
— Кто вы? — настороженно спросил Робер.
— Доложите господину Маршану, что его хочет видеть по срочному делу брат его московского дяди…
— Какого дяди?
— Он знает.
— Позвольте обыскать вас! — сказал Вилла и, не дожидаясь разрешения, быстро, словно падая на Романа, провел ладонями по всем его карманам.
Маршан вышел через минуту: маленький, пухленький, видимо, после дневного сна, в шелковой старомодной пижаме, надетой поверх старого, кое-где заштопанного свитера.
— С кем имею честь? — спросил он.
— Я хочу говорить с глазу на глаз…
— Не вижу нужды. У меня нет секретов от моего помощника.
— Я — брат Якова.
— Какого Якова?
— Того самого… Шелехеса.
— У вас есть доказательства, что вы брат Якова?
— Да.
— Как вас зовут?
— Федор.
— Это вы служите в…
— Да, — перебил его Роман. — Это я там служу. Поэтому сделайте исключение и поговорите со мной наедине.
— Робер, мы поговорим в кабинете…
Когда они остались одни, Маршан, предложив Роману сигару из деревянного ящичка, спросил:
— Как Ося? Где он сейчас? В Питере?
— Вы прекрасно знаете, что Ося в Иркутске, — ответил Роман. — И чтобы нам побыстрее закончить все формальности — проверка мандатов и все такое прочее, — я захватил с собой несколько фотографий и мой паспорт, под которым я здесь живу как гражданин Бельгии… Я здесь работаю — вы понимаете, на кого я здесь работаю… Вот посмотрите, — и он положил перед Маршаном пачку фотографий и свой паспорт.
Маршан неторопливо достал из кармана своей тяжелой шелковой пижамы лупу, внимательно изучил фотографии — не монтаж ли, так же внимательно изучил паспорт и сказал:
— Но брат, вероятно, говорил вам, Федор Савельевич, что я далек от политики и в грязные авантюры никогда не влезал. Да и вы, думается, не станете менять профессию разведчика на зыбкое дело торговца бриллиантами…
— Господин Маршан, мой брат арестован ЧК.
— Боже мой! Когда?
— Неделю тому назад.
— Это серьезно?
— Боюсь, что да.
— Несчастный Яков… Но я не понимаю, за что его могли арестовать? Он же честнейший человек! Я убежден, что суд оправдает его! Я готов дать письменные показания в его пользу: мы соприкасались по работе до переворота, и ваш брат всегда отличался отменной честностью.
— Спасибо, — ответил Роман, — я признателен вам за столь лестную оценку деловых качеств брата, господин Маршан… Но дело значительно серьезнее, чем вам кажется… Якова арестовали из-за посылки Огюсту, — сказал он, достав из кармана пачку фотографий, сделанных судебным фотографом как материал, приобщаемый к делу, — здесь рукой Якова написан адрес… Вам этот адрес знаком?
— Нет, — ответил Маршан и перестал улыбаться той своей легкой, чуть насмешливой улыбкой, которая не сходила с его лица с начала разговора, — увы, незнаком.
— Тогда каким же образом я проследил маршрут Огюста к вам? Моего брата обвиняют в связях с вами, но конкретных данных в Москве нет: я их получил здесь сам, по своей инициативе…
— Тогда торопитесь. Надо отправить эти данные в Москву, их ждут ваши сослуживцы в ЧК, товарищ Шелехес.
— Их там очень ждут, — согласился Роман, — но, пожалуйста, на будущее — никогда и нигде не называйте меня по фамилии.
— Я избегаю совершать то, что грозит мне горем, но подчас забываю это делать по отношению к тем людям, с которыми меня сводит жизнь. Простите меня…
— Вы не всегда избегали совершать то, что вам грозит горем, Маршан. Вы понимаете, что, если ЧК получит данные о том, какие посылки Огюст получает для вас из Гохрана, вы станете уголовным преступником у себя на родине — по законам вашей, а не моей страны?