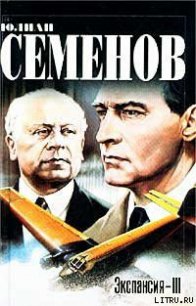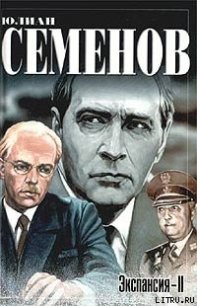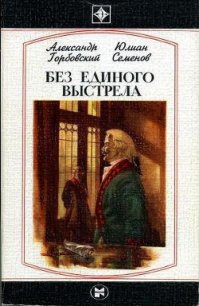Экспансия – I - Семенов Юлиан Семенович (серия книг TXT) 📗
Штирлиц — XI (октябрь сорок шестого)
Пересечения человеческих судеб непознаваемы в такой же мере, как и те загадочные, в чем-то даже мистические моменты, когда случай становится предтечей закономерности, или же, наоборот, закономерное течение событий прерывается волею случая.
Действительно, как следует объяснять такие повороты истории, как, например, смерть Александра Македонского, явившаяся предтечей гибели Эллады? Была ли эта смерть закономерна? Или же виною всему случай? Но отчего же тогда этот частный случай — смерть человека, рожденного по образу и подобию миллионов других людей, — породил столь кардинальную ломку политической и, если хотите, этической карты мира?
Поддается ли логическому просчету та ситуация, в которой именно Византия — умирающая, раздираемая противоречиями, сходящая с исторической сцены из-за интриг, экономической косности и пренебрежения к рождающемуся новому, — передала религию пышно-торжественного православия молодым, динамически развивающимся славянам Киевской Руси? Почему не Ватикан, с его суховатой, в глубине своей прагматической доктриной, одержал верх, но именно Византия? Запоздали папские послы? А почему они запоздали? Коням корма не хватило — по дурости тех, кто держал ямские дворы на многоверстных, опасных для путешественников прогонах из Ватикана в Киев? Или же в этом был сокрыт какой-то иной смысл?
Можно ли просчитать на ЭВМ причинный момент гибели Петра Великого? С его смертью история России пошла вспять, началась смута, реанимация прошлого, которое всегда смердяще, несмотря на обильное припудривание древних реалий; откатывание империи с тех рубежей, к которым ее вывел гений Петра и его сподвижников. Что это — случай? Или закономерность?
Отчего такой мудрый политик, каким был Франклин Делано Рузвельт, выбрал на пост вице-президента Гарри Трумэна? Понятно, что искусство государственного управления предполагает обладание лидером чувства баланса; полярность идей гарантирует устойчивость курса, делая невозможными кардинальные отклонения, поскольку в кабинете существует тщательно скалькулированная разность мнений. Однако же почему из нескольких сотен политиков, столь угодных правому большинству Америки, которое страшилось нового и полагалось на привычное, он выбрал именно Гарри Трумэна?!
Видимо, в данном конкретном случае штаб Рузвельта совершил непростительную (но, увы, весьма среди политиков распространенную) ошибку, поставив на того, кто по своим параметрам никак не годился ему в соперники — весьма скромно образован, застенчив и совершенно неизвестен широким массам народа, какой же это конкурент?!
Подбиравшие людей по своим меркам, окружая президента талантливыми людьми, в штабе, видимо, забыли, что в истории человечества бывали и такие ситуации, когда капитал выбирал себе серого лидера, который был значительно более удобен, чем искрометная личность, потому что управляем, вполне пассивен. Пусть он будет рупором тех идей, которые определяют консервативную тенденцию, пусть не мешает, пусть берет себе все лавры национальной славы, тенденция не подвержена суетности, ее прежде всего волнуют корыстные интересы той общности людей, которую она, эта тенденция, выражает.
Так что же это — случайность или закономерность — когда на смену Рузвельту, готовому принимать решения, будоражившие страну, пришел не либеральный Генри Уоллес, стоявший за продолжение дружеского диалога с Кремлем, но осторожный консерватор Трумэн, отбросивший Соединенные Штаты к поре тридцать третьего года, когда в стране царствовал изоляционизм, представители левых концепций причислялись к врагам, все европейское почиталось зыбким, в чем-то даже заразным, а Советский Союз вовсе не признавался и был отнесен к категории «географической данности»?!
Отчего изо всех зоологических антикоммунистов, рожденных триумфом революции Ленина, лишь австрийский фанатик Гитлер смог прийти в рейхсканцелярию Германии и сделаться кровавым, всевластным, антиинтеллектуальным фюрером того народа, который дал человечеству Баха, Дюрера, Лютера, Маркса?
Закономерен ли был этот чудовищный алогизм или случаен?
Видимо, однозначно ответить на этот вопрос невозможно, ибо, не существуй в Германии той поры Круппа и Гуго Стинненса, не сложись правительственная бюрократия, коррумпированная с магнатами, не выражай ее интересы фон Папен, человек с гуттаперчевой совестью, не царствуй в западном мире малоинтеллигентная, совершенно лишенная компетентности точка зрения на сущность социалистической революции, случившейся в России, не восторжествуй эмоции над логикой, — не смог бы Гитлер так легко, словно нож в масло, войти во дворец канцлера. Да, конечно, немцы были унижены условиями Версальского договора, который был не чем иным, как пиром победителей, думавших о гарантиях развития своего национального капитала, но не о будущем мира; да, бесспорно, немцы оказались неподготовленными — после столетий палочной дисциплины, царившей при кайзерах, — к тому демократическому взрыву, который последовал за крахом монархии, столь угодной безмозглому обывателю, привыкшему полагаться на приказ сверху, а не на собственные размышления об истине и лжи, выгоде и проигрыше, враге истинном и мнимом.
Но как можно было поверить в то — и эта вера стала национальной, повсеместной, — что лишь большевики, славяне и евреи повинны в горестях, обрушившихся на страну? Как можно было не видеть, что именно собственные воротилы оказались неспособными вывести страну из кризиса? Ведь именно в их руках была власть, то есть деньги, пресса, железные дороги, заводы, полиция, внешняя политика, армия! Как можно было не понимать, что науськивание на других — в чем-то не похожих на тебя формою ли носа, цветом волос или же способом распределения национального продукта — есть финт власть предержащих, понявших собственное банкротство?! Нет ничего страшнее, когда к власти приходит серость. В ее-то недрах и зарождается фашизм, идеология люмпена и лавочника, царство тупой устремленности в одну лишь национальную общность, которая была возможна в прошлом, но в век нынешний, в век сверхскоростей, в пору, когда мир сделался малым и единым, зарождение такого рода доктрины чревато одним лишь — гибелью человечества.
Видимо, такого рода постановка вопроса, когда рассуждения строятся по принципу «от общего к частному», заставляет пристально рассматривать судьбу не только лидера — в незримой сцепленности случайности и закономерности, — но и самого обыкновенного человека, ибо в какой-то момент именно он, обыкновенный человек, ничем, казалось бы, не примечательный, оказывается в средоточии такого рода загадочных перекрещиваний, которые делают его сопричастным к событиям глобальным, мировой важности.
Так — в какой-то, понятно, мере — случилось и с Робертом Харрисом, который приехал в Бургос в тот же день, что и Штирлиц, правда, приехал он сюда совершенно случайно, движимый желанием посмотреть тот город, где, начиная с тридцать шестого года и по начало тридцать восьмого, он был корреспондентом лондонской «Мэйл» при штабе генерала Франко.
Вообще-то цель его поездки в Испанию была совершенно иной. Он должен был встретиться с теми, кто был связан с империей ИТТ, поскольку семья Харриса имела прямые интересы в «Бэлл корпорэйшн», а она, эта британская фирма, вела давний и трудный бой с полковником Беном, начиная с той еще поры, когда тот вступил в альянс с нацистами, оттеснив, таким образом, островитян с традиционно принадлежавших им регионов Европейского континента.
В Бургос же, используя воскресный день отдыха, Харрис поехал на встречу с молодостью, ибо каждого человека тянет к тем местам, где протекли его лучшие годы; одни, более мужественные, отправляются туда, не страшась понять, что все самое прекрасное минуло уже, осталось позади; другие пытаются играть в жмурки с самим собою, придумывая будущее, тешат себя надеждой на встречу со счастьем, третьи запивают по-черному и начинают существовать, ожидая приближения неизбежного конца.