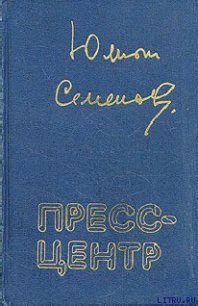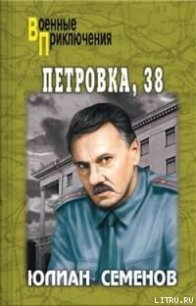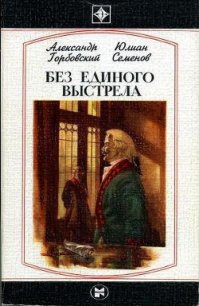Межконтинентальный узел - Семенов Юлиан Семенович (книги читать бесплатно без регистрации полные TXT) 📗
— Выпить хочешь? — спросил Юджин.
— Боюсь.
— Здесь об этом никто не узнает, — заметил Кузанни, — загнивающий Запад, все сидят со стаканом, только пьяных нет, пьяных здесь с работы гонят.
Степанов улыбнулся:
— У нас нет сухого закона… Не верь болтовне… Просто я очень боюсь, что завтра будет раскалываться затылок…
Кузанни вздохнул, покачав кудлатой седеющей головой — ни дать ни взять итальянский актер Раф Валлоне; что значит кровь — американец в четвертом колене, а все равно угадывается породистый римлянин.
— Я боюсь того же самого. Только еще вдобавок я начал глохнуть. И это очень плохо, Дим.
— А я слепну. Можно поспорить, что хуже.
— Спорить не надо: глухота хуже. Когда тебе пятьдесят три, и ты ни черта не слышишь, и это раздражает твоего сына, который привык говорить очень тихо, а ты сердишься на себя, что не можешь понять, о чем он, и тогда парень начинает зло орать, делается так страшно и пусто, старик, так одиноко, что отчаянно хочется отчубучить что-то невероятное, такое, что сделает тебя новым Гете, и в тебя влюбится прекрасная молодая девушка: любят ведь не только молодых — влюбляются и в мысль?!
Степанов возражать не стал, кивнул согласно; Кузанни все понял, досадливо махнул рукой, попросил официанта принести хайбол:
— Ты как хочешь, а я все-таки жахну… Знаешь почему? Объясню тебе… Старея, я теряю сына… А это равносильно потере самого себя. Пытаюсь заново обрести силу в работе, но, когда прерываюсь хоть на неделю, думы рвут голову, а это погано, навязчивость какая-то, постоянность дури и вздора…
Степанов закурил, тяжело затянулся, пожал плечами:
— В тебе говорит родительская ревность, Юджин. Стыдно. Сколько сейчас Стивену? Двадцать шесть?
— Через полгода будет двадцать четыре.
— Вот видишь. А он до сих пор с тобой. Пойми же парня… Вспомни себя в его годы…
Кузанни снова покачал головой:
— Знаешь, конечно, доктора Спока? Его первые лекции: доброта, с ребенком возможна только доброта, лишь избыточная доброта способствует рождению мужественного и честного человека. А чем Спок кончил? Не знаешь? Строгость. Необходима строгость. Авторитет родителей подобен авторитету тренера по горным лыжам. Тот кричит и бьет палкой по заднице, если ученик не делает так, как надо. И тренера уважают. Родители должны стать такими тренерами: никакой растворенности в детях, требовательность, постоянная Демонстрация собственного ума, опыта и силы. Только тогда родится авторитет. И лишь после того, как он родился, калькулированная Доля доброты… Стивен выполняет все поручения своего профессора, потому что знает: не сделай, как надо, вылетит к чертовой матери из докторантуры. Я никогда ничего ему не запрещал, не требовал, а просил, не наказывал… Я его только гладил… Вот он и приходит ко мне лишь в те дни, когда у его подруги трудные дни: она в это время бесенеет, он и бежит ко мне… А пройдет четыре дня — и снова к ней… А я один… В обнимку с диктофоном. И пишущей машинкой. При этом глухой.
— Нет ничего недостойнее ревности, — повторил Степанов. — Ты его ревнуешь. Считаешь собственностью, а он личность, он отпочковался. То, что детям нельзя показывать возрастные недуги в этом ты прав. Раздражительность — опасная штука в отношениях между поколениями.
— Я не ревную его, — сердясь, повторил Кузанни и залпом выпил хайбол. — Просто чертовски жаль, что так быстро пронеслась жизнь и никогда уже, никогда не стать мне Гете. Я Кузанни, этим и надобно довольствоваться… Так что нечего себя тешить иллюзиями: осталось одиночество. Что ты делаешь сегодня вечером?
— Диктую. Будет звонить Москва.
— А потом?
— Они выходят на связь в час ночи.
— Ну и что? Давай после побродим вместе?
«Я его никогда не видел таким, — подумал Степанов, — сдал за эти три года; много набрал в искусстве, вырвался вперед, порвал ленточку финиша изодранной в кровь грудью и сдал. Наверное, и меня ждет такой финал, обидно».
— Приходи в «Эпсом», знаешь этот отель?
— Найду. Я расскажу тебе про то, что сейчас пытаюсь делать, ты расскажешь мне о своем, а потом пойдем гулять на озеро… Там рассветы такие, что перестаешь страшиться последнего дня… Всякий рассвет на озере как молитва надежды… Я приду часов в одиннадцать, можно? Я не буду тебе мешать, обещаю…
— Мешай на здоровье, — улыбнулся Степанов. — Мне лучше работается, если мешают…
— Знаешь, я напридумывал всякую ерунду для нового фильма, а здесь вдруг понял, что я записывал никакую не ерунду, а правду, неведомую мне ранее… И сделалось еще страшнее — ну ее к черту, эту правду! Хочу снимать развлекательное кино, с Аденом Делоном и Бельмондо! Пусть палят из двустволок! Спасают проституток, открывая в каждой из них новую богоматерь!…
— Ты когда отдыхал последний раз?
— А ты?
— Если мы взяли на себя тяжкое бремя быть психами и работать без отдыха, — заметил Степанов, — то и за это приходится расплачиваться… Работа — добро, а разве добро бывает безнаказанным? — Он усмехнулся. — Ничто так не подвержено опале, как желание сделать благо ближним… Тебя не посещало желание лечь в психушку, чтобы в череп вмонтировали спасительный датчик спокойствия?
Кузанни долго молчал, потом, приблизившись к Степанову, тихо сказал:
— У меня такое ощущение, что сейчас в Штатах задействованы какие-то мощные таинственные силы, они предпринимают все возможное, чтобы сорвать не столько нынешние переговоры, сколько те главные, которые должны состояться.
— Задавать вопрос «почему», видимо, наивно?
— Безжалостно. Потому что я на него не могу ответить. Идет схватка гигантов. И в этой чудовищной схватке магнатов тот, кто строит страшные бомбардировщики, ныне подобен агнцу божьему в сравнении с молодыми интеллектуалами, которые вложили свои миллиарды в ракетные комплексы… «Как авиация в свое время пришла на смену пассажирским лайнерам — в смысле массовости и скорости перевозок, — так и авиация ныне обязана уступить место ракетам». Все остальное, говорят они, все эти разговоры об агрессии, сдерживании, гонке вооружений, космических зонтах, от лукавого. «Старцы, отойдите с дороги прогресса!» А дело упирается в то, кому конгресс отпустит миллиарды: им или их авиаконкурентам. «Локхид», который и мы и вы столь зловеще расписывали в газетах, сегодня более приемлем мирному выходу из конфронтации, чем устремления ракетных интеллектуалов…
Это та правда, которую я угадал… Но я не гений, чтобы придумать финал — сценарий без финала не существует. Я беспомощен… А взятые у продюсера деньги нужно отработать. Как?
— Интересно, — ответил Степанов. — Только знаешь что? Пожалуйста, не сердись на Стивена, у нас с тобой нет никого ближе детей… И мирись, иначе не сможешь работать…
Работа-III
Профессор Яхминцев, начальник отдела, в котором работал Иванов, был высок и статен; седая шевелюра тщательно уложена; волосы, несмотря на то что профессору давно исполнилось шестьдесят с лишком, казались густыми, словно бы проволочными. «Неужели лаком пользуется, — подумал Славин, — вообще-то ерунда, пусть себе, но в каждом из нас с юности заложено нечто такое, через что невозможно переступить. На Западе многие мужчины делают маникюр, и это в порядке вещей, хотя дьявольски дорого, а для меня такой человек отвратителен, я им брезгую, прекрасно при этом понимая, что не прав».
— Нет, нет, Иванов — весьма недюжинное явление в науке, — убежденно повторил профессор. — Кладезь идей, содержательный человек…
— А почему же тогда его держат в черном теле? — спросил
Славин.
— То есть? — Яхминцев удивился.
— Если он «кладезь идей», то отчего бы ему не возглавить лабораторию?
— Ах, Виталий Всеволодович, сколько раз ему это предлагалось!
— На каком уровне?
— На соответствующем… У нас с ним отношения весьма сложные… Вам, видимо, об этом уже говорили, я же знаю, вы готовите публикацию… Наш институт подобен бабьему царству, хотя работают в основном мужчины: никаких тайн, всё всем обо всех известно. Так вот, несмотря на сложность, существующую в наших отношениях я трижды называл его кандидатуру на должность заведующего лабораторией…