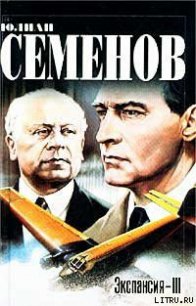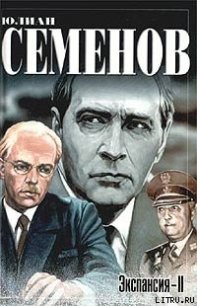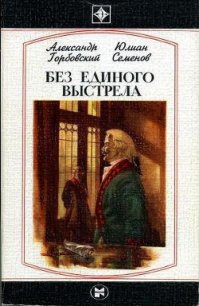Экспансия – I - Семенов Юлиан Семенович (серия книг TXT) 📗
Ну, хорошо, спросил он себя, а что, если я сейчас все открою Гаузнеру? Возьму и скажу ему: «Друг, ты обречен. Тот, кто отправил тебя сюда, отдает тебя на закланье. Ему нужно — в какой-то сложной комбинации, не известной ни тебе, ни мне, — чтобы ты имел при себе документы о связи Штирлица с Роумэном. Когда твое тело, мертвое, податливое и тяжелое, станут переворачивать — после того как обмеряют его и сделают фотографии — залезать в карманы, снимать часы и туфли (каблуки — прекрасные контейнеры для тайной корреспонденции), при тебе должны быть именно эти документы. Не зря мне поручали внимательное наблюдение за Роумэном, не зря я получил указание „организации“ вступить в контакт с доктором Брунном перед тем, как Роумэн начнет с ним свои игры, не зря мне поручили провести эту операцию так, чтобы Брунн ощутил постоянную заботу о нем и наше тайное могущество, которое ничего не просит взамен за свое добро, и я провел ту операцию, но я был маленькой пешкой в большой игре, задуманной комбинаторами; теперь-то ясно, что они не зря приказали мне организовать знакомство девки бедного Гаузнера с этим американцем, неспроста именно я должен был привести Штирлица к Эрлу Джекобсу, все это неспроста, и мне не дано понять последующие ходы комбинации, и тебе, несчастный, доверчивый Гаузнер, не дано понять, во имя чего ты должен умереть». Ну и что? — спросил себя Кемп. Что произойдет, если я скажу ему это? Он же не поверит мне. Или передаст по какой-нибудь запасной линии — они могли дать ему запасную цепь — сигнал тревоги: «Кемп сошел с ума». Или — что еще хуже: «Кемп продался врагу и клевещет на братство нашей „организации“.
— Хорошо, — сказал Кемп, ощутив тяжелую усталость, даже плечи опали, — я сделаю все, что могу. Едем на телеграф, оттуда легче связаться с кем надо, телефоны ресторанов на подслушке, здешние оппозиционеры ресторанные, они затевают дворцовые перевороты в ресторанах, понятно? Хотите выпить перед дорогой?
— Я пью после окончания работы, — ответил тот. — Большое спасибо.
После окончания работы ты будешь лежать на асфальте, подумал Кемп. Или на паркете. Лучше бы на ковре, не так больно падать. Но ведь когда пуля разорвала тебя, ты не чувствуешь боли от падения, сказал он себе, ты воспринимаешь падение, как благо, как прикосновение к земле, которая дает силы; кто-то из древних норовил прикоснуться ногой к земле, когда его душил враг, ибо верил, что она даст ему новую силу, и, кажется, дала, но ведь это бывает в легендах, в жизни все грубее и жестче, пахнет жженной шерстью, булькает алая кровь в уголках рта и горло наполняется горькой блевотиной, потому что пробита печень, большая, шлепающая, как у коровы, и такая же бурая.
Он поднялся рывком, потому что понял: еще мгновение, и он все вывалит Гаузнеру, он просто не сможет перебороть в себе это желание; кто-то рассказывал ему, кажется, Клаус Барбье, что предатель — накануне того момента, когда он идет в камеру работать против своего близкого друга, — испытывает к нему такую же рвущую сердце нежность, как мать к своему ребенку. Но это продолжается несколько мгновений; главное — перебороть в себе криз, потом будет не так страшно; больно — да, но не страшно, и если боль все-таки можно перенести, то страх постоянен, а потому непереносим.
Позиция — I
Июнь сорок шестого года в Нью-Йорке был чрезвычайно влажным и до того душным, что ощущение липкого зноя не оставляло горожан и ночью, когда с океана налетал ветер; ливни, — словно бы кто поливал из брандспойта, — были тем не менее короткими, прохлады не приносили.
…Посол Советского Союза Громыко поднялся из-за стола, отошел к окну; Нью-Йорк спал уже, улицы были пустынны, в дымчатом серо-размытом небе угадывался близкий рассвет; вспомнил Пушкина — «одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса», однако то ли магия Петровой столицы, то ли постоянная тоска по дому — уже третий год он представлял за океаном Родину, самый молодой «чрезвычайный полномочный», нет еще тридцати восьми, — но пронзительная по своей безысходной грусти пушкинская строка не ложилась на Нью-Йорк; воистину нам дым отечества и сладок и приятен…
Громыко глянул на светящийся циферблат: половина третьего; через семь часов выступление в Комиссии ООН по контролю над атомной энергией; утром получены предложения Кремля: от того, как он замотивирует необходимость принятия русской позиции — всего три пункта, несколько фраз, — зависит будущее человечества; именно так, ибо речь пойдет о том, что тяжко тревожит мир.
Посол отдавал себе отчет в том, что оппозиция советскому предложению будет серьезной; рассчитывать на логику (не чувства даже), увы, не приходилось, ибо строй рассуждений военно-промышленного комплекса совершенно особый, к общечеловеческому неприложимый. Он поэтому работал весь день над текстом своего выступления, чтобы абсолютно точно и, главное, доходчиво донести смысл предложений Кремля не только до членов ООН, но до западного радиослушателя и читателя, подвергавшихся ежечасно и ежеминутно талантливой и жесткой обработке средствами массовой информации: трудятся доки, мастера своего дела, в высочайшем профессионализме не откажешь.
— Господин посол, — спросил его как-то один из старейшин американской журналистики Уолтер Липпман, — неужели вы продолжаете верить в возможность достижения согласия в мире несмотря на то, что сейчас происходит в нашей стране?
— Верю.
Липпман улыбнулся:
— Это указание Кремля?
Громыко ответил не сразу, словно бы размышляя вслух:
— Это с одной стороны. А с другой — моя прилежность истории… Если к этой науке относиться вдумчиво и не страшиться черпать в прошлом уроки для будущего, тогда нельзя не быть оптимистом.
…Он вернулся к столу, пробежал глазами текст и вдруг явственно увидел лица своих братьев Феди, Алеши и Дмитрия, младшенькие; в детстве еще пристрастились к истории: неподалеку от их родной деревни, возле Железник (Старые и Новые Громыки разделяла прекрасная и тихая река Бесядь) высились курганы; детское воображение рисовало картины прошлого: виделись шведские легионы, что шли по Белоруссии к Полтаве; измученные колонны Наполеона. Когда братья подросли, начали зачитываться книгами Соловьева, мечтали о раскопках; не суждено — Федю и Алешу убили нацисты, сложили свои головы на поле брани; Дмитрий изранен, в чем душа живет; дядья по матери, Федор и Матвей Бекаревичи, погибли во время войны; Аркадий, единственный брат жены, убит в бою под Москвой…
«Нельзя не быть оптимистом», — вспомнил он свой ответ Липпману; горестно подумал, не выдает ли желаемое за действительное? Нет, как бы ни было трудно правде, она возьмет свое; чем больше людей поймут нашу позицию, тем больше надежды на то, что в будущем не повторится страшное военное прошлое; здесь его знают по фильмам Голливуда, живут представлениями, причем не только молодежь, но, что тревожило, и политики.
Громыко никогда не мог забыть, как его — он тогда прилетел в Вашингтон — пригласил в гости Джон Фостер Даллес, автор «жесткого» курса. Особняк его был небольшим, скромным; гостиная одновременно служила библиотекой, множество шкафов с книгами, очень похожие на декорации из бродвейских пьес про добрых старых адвокатов, черпающих знания в старинных фолиантах тисненой кожи с золоченым обрезом, — мысль обязана быть красивой.
Даллес протянул гостю обязательное виски, хотя знал, что советский посол никогда ничего не пьет; открыл створку шкафа, провел пальцем по корешкам:
— Ленин и Сталин, избранные сочинения, — достав том, он пролистал страницы, испещренные карандашными пометками и подчеркиваниями. — Сейчас меня особенно занимает вопрос диктатуры пролетариата, стараюсь понять ее истинный смысл.
Посол цепко проглядел пометки Даллеса; даже беглый просмотр свидетельствовал, что хозяин дома выстраивает концепцию тотального неприятия всего того, на чем состоялся Советский Союз, — вне времени, места и конкретных обстоятельств, без малейшего желания хоть как-то понять ближайшего союзника Америки, каким была Россия в Ялте весной сорок пятого.