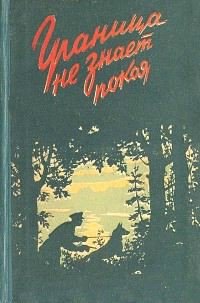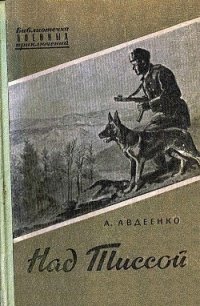Антология советского детектива-41. Компиляция. Книги 1-20 (СИ) - Авдеенко Александр Остапович (читать лучшие читаемые книги TXT) 📗
Глава 13
Сумрачный и по внешнему виду, и по душевному состоянию был в этот день Дзержинский. Молча, без обычной заинтересованности прослушал доклад Манцева об открытиях, сделанных в записной книжке Соболева.
— Так что метальщик снаряда и, без всякого сомнения, он же руководитель акции и организации в целом Соболев ликвидирован. Это подтверждается и найденными при убитом документами, и показаниями арестованных анархистов, которым был показан труп…
Дзержинский согласно кивнул головой и плотно охватил пальцами виски, раскалывающиеся от пульсирующей боли.
— Еще один… И этот милиционер. Его фамилия Глухов? Да, Глухов… Ненавижу насилие. Когда слышу об очередной жертве, это причиняет мне физическую боль. Ненавижу…
Манцев не мог скрыть удивления:
— О чем вы, Феликс Эдмундович? Конечно, Глухова жаль. Но при чем тут Соболев? Это же бешеная собака.
— Знаю… Но даже бешеные псы рождаются нормальными славными щенками. Возможно, у Соболева есть мать, близкие…
Манцев счел долгом отвлечь председателя от этих неожиданных для него переживаний:
— Вы не должны так, Феликс Эдмундович. Партия вложила в наши руки меч революции.
— Но и с мечом в руке надо сохранять доброту в сердце. Иначе беда. Страшно даже не само насилие, без этого нам пока не обойтись. Но до крайности опасно привыкание к насилию. А это грозит каждому из нас, сотрудников ВЧК. Не могу привыкнуть к этим смертям, к этой, увы, неизбежной жестокости революции и гражданской войны. Боюсь, она нам еще отзовется…
— Не мы развязали войну!
— Конечно, не мы начали первыми… Только сознание этой истины и помогает мне выдерживать все. Вы правы, Василий Николаевич, правда революции и правда истории на нашей стороне. Тем более наша борьба должна вестись высокоморальными средствами. Дурные средства могут обесценить, скомпрометировать даже святую цель. На этом, кстати, свихнулись и анархисты, и левые эсеры.
Дзержинский налил в стакан воды, отпил глоток. Затем продолжил разговор, по всему судя, имевший для него особое значение.
— Борьба во имя высоких идеалов означает борьбу милосердную. Никак не иначе. Жестокость ведет к вседозволенности. Если мы не будем помнить постоянно об этом, то разложим себя изнутри. Даже в самых тяжких, невыносимо тяжких обстоятельствах мы должны оставаться рыцарями. Рыцарями диктатуры пролетариата.
Феликс Эдмундович выпил еще воды и решительно встряхнул головой, давая понять собеседнику, что мгновение откровенности душевной миновало и пора переходить к делу.
— Так вы полагаете?
— Полагаю, — обрадованно, а потому излишне громко отозвался Манцев, — что со смертью своего главаря Соболева штаб «анархистов подполья» развалится. Тем более что их идеолог Ковалевич тоже убит.
— Ошибаетесь, Василий Николаевич. Все будет как раз наоборот. Владимир Ильич не случайно подчеркивал, что анархизм — это порождение отчаяния, психология выбитого из колеи интеллигента или босяка. Архитеррор всегда привлекал самые горячие головы и самые безрассудные. Именно в отчаянии, что все рушится, они пойдут на самую сумасшедшую и кровавую авантюру. К тому же не забывайте, что на свободе пока еще гуляет Черепанов! Это сильная личность и природный вожак.
— Вы думаете, они решатся повторить теракт?
— Непременно! У них чуть не сто пудов динамита, этого хватит на десятки взрывов, да и руки чешутся. Я вот о чем подумал. Белогвардейцы обошлись бы с такой горой взрывчатки по-военному рационально. Склады оружия, узлы связи, мосты, ну, и тому подобное. А этим… — акцентируя внимание собеседника, Дзержинский постучал по столу, — …нужен не просто теракт, а такой, чтобы вся Европа ахнула. Никак не меньше. Пристрастие к театральным эффектам у анархистов да и у левых эсеров в крови.
Манцев уже включился в ход мыслей Дзержинского:
— Выходит…
Феликс Эдмундович не дал ему договорить:
— Да! По всему выходит, что теперь они замахнутся на Кремль! И расшибутся в лепешку, чтобы подгадать взрыв или 7 ноября, или накануне годовщины революции.
После небольшой паузы председатель МЧК отдал распоряжение:
— Прошу вас, Василий Николаевич, все отделы, всех ответственных сотрудников ориентировать на поиски анархистского арсенала. Это самое важное сегодня дело. Самое срочное. Не оставляйте без внимания ни сигнала, ни ниточки, за которую можно было бы ухватиться.
— Незамедлительно передам ваше указание товарищам, — отозвался Манцев. — Теперь об эсерах…
Встрепенулся Дзержинский:
— Что-то новое?
— Новое… Выяснилось, что в соседней с захваченной нами квартире на Глинищевском живет левый эсер Тарасов. Мы устроили в ней обыск. Нашли взрыватели, идентичные тем, что использовали террористы-анархисты, запасные документы, принадлежавшие Соболеву, даже три поддельных незаполненных бланка ВЧК. Ранее на Тарасова никаких подозрений не было…
— Подождите, подождите, — сообщение взволновало Дзержинского. — Тарасов, как мне помнится, максималист. Но до сих пор максималисты соблюдали лояльность по отношению к Советской власти.
— Так оно и было до последнего времени. Я выяснил, оказывается, максималисты раскололись. Одна часть действительно сохраняет, как вы выразились, лояльность. Другая, к которой принадлежит Тарасов, слилась с неразоружившимися левыми эсерами и «анархистами подполья».
— Доказательства?
— Налицо. В засаде на квартире Тарасова захватили трех максималистов. Все они вместе с «анархистами подполья» участвовали в ограблении кассы Тульского патронного завода. Тогда они взяли три миллиона рублей. Деньги поделили.
— Кого именно арестовали?
— Колодова, проживал под фамилией Костин. Прохорова, при аресте назвался Евстифеевым. Третий вообще фокусник: документы политотдельца Селиванова, в Туле действовал как Родионов, ну, а в Москве опознан как Михайлов.
— Выходит, круги расширяются, — подвел итог Дзержинский. — А ведь это закономерность, Василий Николаевич. Мелкобуржуазные революционеры, не порвавшие со своей средой, неотвратимо скатываются в болото контрреволюции. И заметьте: крайне редко просто отходят от революции, становятся обывателями. Нет! Самыми злыми врагами!
…А в это самое время на дальней по тогдашним меркам окраине Москвы, в Лефортове, в громадном кабинете «Главной военной гошпитали» перед пожилым военврачом стоял раздетый по пояс, подрагивая от холода, Сергей Вересков. В высоком сводчатом окне виднелись еще не опавшие кроны вязов и лип старого кладбища, прочно прозванного москвичами Немецким, хотя официально именуемого иначе — Введенским. Более двух веков хоронили здесь обитателей местности, называемой Немецкой слободой, а того ранее — Кукуем. Сюда, к сердечному другу Францу Лефорту (кстати, и не немцу вовсе, а швейцарцу), наезжал юный царь Петр… Лежали здесь, вдали от родной земли, и французские гренадеры, брошенные на гибель в московские снега «маленьким капралом»— императором Наполеоном, и немецкие солдаты, умершие в плену уже в недавнюю войну, империалистическую.
Но всего боле покоилось здесь умерших от ран и болезней в «Главной военной гошпитали» конечно же русских офицеров и солдат — ветеранов всех войн, что вела Россия за последние два столетия.
Но о грустных этих вещах никак не хотелось думать Сергею, когда вертел его в разные стороны, прощупывал до костей, мял сильными короткими пальцами, обстукивал то со спины, то спереди грубоватый, но, по всему видать, знающий врач. Судя по старому кителю, выглядывающему из-под белого халата, из медиков старой русской армии. Да и властность в нем чувствовалась не профессорская, а типично офицерская.
Ткнув пальцем в несколько синих рубцов и выдернув из ушей резиновые наконечники стетоскопа, доктор осуждающе, словно сам Вересков был в том первейше виноват, буркнул:
— Что ж, голубчик, в целом подлатали вас вполне удовлетворительно. Претензий к медицине с вашей стороны по сей причине нет и быть не должно. Но вот это, — он легонько коснулся рубца под левым соском, — в сочетании с тифом скверная комбинация.