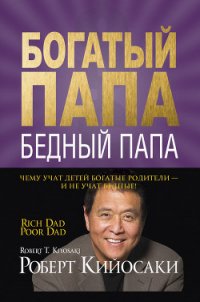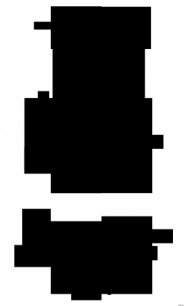Эксперт, на выезд!.. - Нежин Виталий Григорьевич (версия книг TXT) 📗
А сколько раз мои друзья засиживались допоздна после работы, чтобы открыть имена неизвестных солдат великой войны, скрытые на крохотных, обесцвеченных листочках в пластмассовых патрончиках-медальонах!
Бывали у них в руках и некрасовские рукописи, и нотные партитуры с нервной рукой Скрябина, и похожие на математические головоломки бумаги великого шахматиста Алехина.
Вот в чем их подлинное призвание, этих тихих моих товарищей из сектора исследования документов. Но… пока у них еще есть своя работа. Остальное — потом.
И вот еще почему я несколько обижен на Кондакова: мне вспоминается, как ходил у нас по отделу морячок из Мурманска и всем без разбора крепко, по-флотски пожимал руки.
Солдатская история. В годы войны, когда морячок был еще совсем мальчишкой, пропал без вести его отец. А вскоре после этого пополз по уральскому городку, где жила семья солдата, подленький слушок. Мол, отец мальчишки и не пропал вовсе, а перекинулся к фрицам. Даже вроде пост какой-то занимает у Власова…
Мать не верила, и мальчишка не верил. Но слух что деготь — липнет. Бросили родные места, уехали на Север.
Мальчишка вырос, пошел на флот, плавал, заполнял всякие анкеты, но при этом чернел лицом. Вопрос об отце… «Пропал без вести на фронтах Великой Отечественной войны». Нет-нет да и кольнет в сердце худая мыслишка.
А прошлым летом пришел к нему на пароход пакет. В пакете полуистлевший отцовский (сын сразу признал) бумажник, пробитый пулей. Письмо в нем почерневшее, рваное, с адресом тем старым, уральским, на конверте. По адресу и разыскали моряка юные мальчишки-следопыты с Херсонщины, найдя старую солдатскую могилу.
Почерк на конверте явно не отцовский, а само-то письмо! Черная бумажная труха, и ничего больше. И так и этак вертел письмо моряк, пока не дал ему кто-то совет обратиться в милицию. Уж если там не разберутся…
Так морячок, гостивший в нашем городе, оказался у тихих и интеллигентных ребят из сектора исследования документов. Рассказал им свою нехитрую историю. Ребята покрутили головами, посомневались в успехе, но письмо взяли.
Неделю они вертели его, разглядывали, фотографировали, светили чем надо и хотя не прочли всего, но сказали морячку твердо:
— Погиб ваш отец под селом Дудчаны. Ранен был в грудь. Дружок и написал с его слов последнее письмо. А в конце, вот посмотрите сюда, отец ваш сам приписку сделал, две строчки всего, но и тех не дописал до конца. Геройски погиб ваш отец…
— Вот так-то, товарищ Кондаков, — говорю я. — Ты зайди ко мне на днях, я тебя сведу к нашим, как ты выражаешься, хиромантам. Для повышения твоего криминалистического образования и для промывки мозгов тоже…
— Закрываю, ребята! — За стойкой проснулась буфетчица. — Уже пятый час, а у меня буфет до четырех!
Мы благодарим буфетчицу и спускаемся по лестнице вниз.
На втором этаже светлоглазая девушка с тонкими пальчиками, перемазанными типографской краской, улыбаясь, сует дяде Мише — он один в форме и самый солидный из нас — кипу еще влажных свежих газет, центральных и наших, областных. Дядя Миша вежливо берет под козырек.
…Заканчивает свою ночную работу типография. У нас работа, похоже, тоже идет к концу — только надо сплюнуть, чтобы не сглазить ненароком…
У нашего фургончика нетерпеливо приплясывает следователь.
— Где вы там застряли? — тихо орет он. — Я уж думал, вы там ночевать остались!
— Неужели вызов? — ахает дядя Миша.
— Не было никакого вызова! — Следователь торопливо лезет в теплую глубь машины.
— Тогда чего же ты кипятишься? — ласково говорит Кондаков. — Ты же спать хотел. Вот и спал бы себе тихо-мирно до нашего прихода.
— Уснешь тут! — взрывается следователь. — Вы как ушли, пес так скулить начал, что я думал, у меня сердце разорвется. Сижу как в собачьей конуре, да еще переживаю за животное. А сунуться боюсь, еще тяпнет!
— Не исключено, — соглашается проводник и через прутья клетки оглаживает благодушно ворчащую собаку. Потом сует ей что-то прихваченное из буфета:
— Соскучился…
22
После каждого выезда мы заходим в дежурную часть и, удобно облокотившись на голубые с белым сияющие пульты, подробно докладываем о том, что произошло и что в связи с этим сделано. Самое основное из нашего рассказа войдет в сводку, но дежурный по городу требует всех тонкостей. Раз-два за суточное дежурство он и сам выезжает на место, но обычно его глаза и уши — мы.
Самого дежурного по городу за его стоящим сбоку простым конторским столом нет — вышел куда-то по делам, и поэтому мы докладываемся его заму — дежурному по угрозыску.
Дежурный сидит, покойно развалясь на стуле, сминая повешенный на спинку китель. Рукава форменной рубашки засучены по локоть, в пальцах дымится сигарета, пепел от которой дежурный стряхивает в неизвестно каким путем взявшуюся у него на пульте высокую жестяную баночку с яркой надписью «Кока-кола».
У дежурного красные веки и нездоровый, мучнистый цвет лица. Наверное, мы тоже не особенно отличаемся от него, но, поскольку зеркал здесь нет, мы наивно полагаем, что имеем вид довольно-таки бодрых, хотя и поработавших как следует людей.
Кондаков начинает рассказывать о налете на таксиста: подробно, в нужных местах помогая себе энергичным жестом. К моему удивлению, дежурный почти не слушает Кондакова и вдруг говорит:
— Пошли бы вы, ребята, соснули хоть часок. На вас же смотреть жалко. Ведь всю ночь прокатались?
Я искоса гляжу на схему города, на южную ее часть. Лампочка в ожидаемом месте не горит. В городе все тихо… Дежурный перехватывает мой взгляд.
— Взяли голубчиков. Прямо тепленьких. Привезли в отдел, шофер опознал. Из общежития строителей.
Ах, какой же молодчага тот самостоятельный лейтенант-участковый! Пошел, значит, разбудил и взял тепленьких! Ай да парень, ай да знаток! И шоферу теперь будет что рассказать приятелям насчет нашей работы. Зауважает, поди, нас! А ведь скис, не доверял, это точно…
Дежурный машет рукой, дескать, идите отдыхать. Вслед говорит мне:
— И пуговица твоя, Паша, пригодилась. Как раз с пальто одного из них.
Ну спасибо. Значит, плюс к тому лейтенанту-участковому и оперативникам и мы тоже — ай да мы! Приятно.
Я улыбаюсь спокойно молчащей карте, подхватываю свой экспертный чемодан и иду к выходу, где в маленьком зальце настороженно ждут магнитофоны, связанные с пультами. Когда дежурный снимает трубку, сразу же включается один из магнитофонов. Звукозапись наших суток. Тоже продукция не для широкого круга людей, как и сводка, первые листки которой, уже отпечатанные, аккуратно разложены на столе под картой.
За спиной дежурный по угрозыску недовольно бурчит, адресуясь, видимо, к Кондакову:
— А я ему, значит, и говорю: обожди пока, не пиши в сводку. Ну пропал ребенок. Хорошего, конечно, ничего нет. Но спрашивается, бабушке звонили? Нет. Дедушке? Нет. Тете, дяде? Тоже нет. Так позвони сначала, выясни, проверь, ведь не сразу же всю милицию на ноги поднимать? А в случае чего мы поможем! Еще звонок — машину угнали! Он сразу — в сводку, и по всем каналам на розыск! А потом звонит снова хозяин машины, он, видите ли, забыл, что одолжил машину приятелю. А он все — в сводку! Не документ, а роман с продолжением. За голову схватишься, когда увидишь. В три пальца толщиной, жуть! А прочитаешь, почти все чепуха какая-то, беллетристика!..
Свои дела. Но если уж дежурный употребляет такое ругательное слово, как «беллетристика», значит, совсем обозлился. Мы вообще не любим этого слова, от него за версту тянет корреспондентами, которым вынь да положь уголовщину не хуже зарубежной; редкими литераторами, которые, увы, в своих требованиях тоже недалеко ушли от журналистов. Конечно, по-человечески их понимаешь: сенсация, динамичный сюжет, погоня, перестрелка, холодные глаза следователя и юлящий взгляд «раскалывающегося» (это словечко будет использовано всенепременно!) преступника. Всему этому с первой же строчки обеспечено неотрывное внимание читателя.