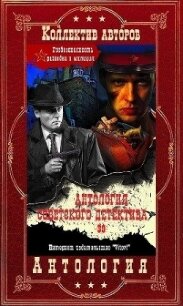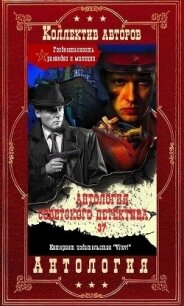Антология советского детектива-38. Компиляция. Книги 1-20 (СИ) - Азольский Анатолий (книги регистрация онлайн бесплатно txt) 📗
Именно — провокаций. Нас провоцировали, и Петр Ильич догадался о провокации вчера или позавчера. И молчал. Второй раз в жизни и службе заманивали его в западню — и вновь у него не было выбора, потому что здравому человеческому разуму не вычислить уже, кому вред, а кому польза от гибели человека, отторгнутого всеми. Пожалуй, только самому Петру Ильичу смерть казалась наиболее приемлемым исходом. На труп Клауса Шмидта мухами полетят следователи всех управлений имперской безопасности, всех отделов абвера — и в конце концов найдут, достоверно установят, кто скрыт под личиной обер-лейтенанта, отразят достоверность документально, а после Победы следственное дело изучится Москвой, и предстанет П.И. Халязин перед своими начальниками чистым и белым, святым и непорочным.
Игнат тоже догадался. Но у него (как и у Петра Ильича, впрочем) теплилась еще вера в истинность приказа, надежда на то, что Москва все-таки нацеливала нас на шестерку, и обманывать тех, кто вызволил его из лагеря, он не мог. Какая-то вероятность сохранялась, какая-то возможность все-таки мыслилась, а когда люди верят во что-то, им не до арифметических подсчетов…
И этот притягательный аромат провокаций… Жили, будто обманутые и спровоцированные. Может, и умирать поэтому легче?
Глава 30
Теперь надо было все менять, и, продолжая копаться в себе, я как бы сквозь зубы поздравил себя. В каких-то глубинах мозга эту провокацию я предусмотрел, от нападения на особнячок отказался заранее и в суете встреч и разговоров поймал на крючок пилота транспортного «Юнкерса», на котором должны были вылететь из города эти ряженые, эта шестерка. До него дошел слух о зубрятине. В Беловежской Пуще истреблялись зубры, копченая зубрятина шла в штабные буфеты, на генеральские столы, и пилоту я пообещал посылочку, два килограмма вкусно пахнущей копченой зубрятины. Хватит с него и полутора килограммов! И довесочек к нему — четырехсотграммовая толовая шашка, эта разворотит кабину «Юнкерса». Но, пожалуй, пусть будут два килограмма копченостей. Не надо взрывчатки. Немцы выстроили эшелонированную систему подстраховки. Нас ждут и в квадрате 41-8, и всюду. Летите, голубчики, в Берлин! Оставить вас в живых — вот наша задача на сегодня.
Ночью прошел дождь, умытая им зелень блестела под утренним солнцем. Тишина. Мир на земле. Ни одного немца не попалось, когда шел по бульвару, огибая парк. Одинокая фигурка на скамейке, шляпа, сдернутая с головы, глаза, горящие жгучим интересом… Гарбунец! Вот уж кого не хотелось видеть. «Пан управляющий, небольшой разговор к вам…» Погнал его прочь, сказав, что буду скоро в ресторане, пусть подождет. И подумал, что сегодняшним днем разрубаются многие узелки и с Гарбунцом покончено будет, мерзавец слишком часто попадается на глаза, к старухе зачем-то приходил, вынюхивает что-то.
Длинный «Мерседес» стоял у подъезда — это подполковник с пятого этажа. А вот и угнанная Игнатом машина, заправленная на прямую дорогу туда, к Варшаве, Игнат намекал более чем прозрачно. Что ж, возможно, сегодня и выедем.
Гнетущая тишина стояла в квартире. Стены впитали в себя только что отзвучавшие обвинения и оправдания. Анна, запахнутая в длинный халат, пальцем ткнула на стол, на завтрак. Есть не хотелось, но этого нельзя было показывать. Что-то пожевал. Петр Ильич достал из шкафа сверток, бросил мне. Развернул: форма гауптмана. Анна раздвинула тарелки, выложила на стол бинты, йод. Для пущего эффекта решено было меня изобразить раненым.
— Совещание переносится на двенадцать, — сказал я. — И Игнат опаздывает. Подождем.
«Шагай вперед, комсомольское племя…» — высвистывал Петр Ильич, и свист оборвался. Сдавленная ругань на польском языке — и я подумал об Игнате. Где он?
— Вот и хорошо, — как-то мягко, по-домашнему сказала Анна. — Есть время кое-что переиграть… Я говорила и повторяю: давайте без маскарада! Неужели вы не понимаете, что не такие уж немцы лопухи, чтоб на одного часового взвалить охрану совещания? Там еще кто-то будет, за дверью, в прихожей, и его надо выманить наружу, и мы выманим! В том случае, если поеду я… Нет, вы представляете: в белом платье, с лиловым поясом, в руках букет цветов, где уж тут часовому знать, пускать или не пускать нас. И только ты, Петя, в форме. Итого трое: обер-лейтенант, красивая дама с цветами и некто в штатском. Такого сочетания никто не предугадает. А когда вытащим внутреннюю охрану — тут уж Игнат сообразит…
— Нет! — выкрикнул от окна Петр Ильич. — Нет! Выкрикнул, спиной стоя к нам. А потом развернулся — неожиданно, как от боли, как от удара. И смотрел на правую руку, на пальцы, которые никак не могли сжаться в кулак. Рука дрожала, большой палец выворачивался назад, а указательный оттопыривался, как вывихнутый. Петр Ильич прикладывал ладонь к подоконнику, распрямлял ее, разглаживал, но судороги вновь начинали сводить правую — стреляющую! — руку… «Иголку дай!» — крикнул в отчаянии Петр Ильич.
У него сдали нервы. Вышел из подчинения какой-то мышечный узелок, правая рука забилась в конвульсиях, пальцы словно вырывались из ладоней, закручивались, Петр Ильич смотрел на них, как на клубок змей: брезгливо, с ненавистью.
И тут стремительно сорвалась с места Анна, упала на колени перед Петром Ильичом, схватила руку его, стала дуть на нее, осыпать поцелуями, шептать слова, какую-то русско-польскую смесь, близкую к тем умиляющим заклинаниям, какими мать обезболивает пораненный пальчик дитяти… И чудо свершилось, дрожь унялась, пальцы стали послушными, рука обрела способность хватать оружие и стрелять из него. Петр Ильич поднял к себе Анну и поцеловал ее в лоб.
— Правильно… Ты поедешь со мной… Все равно тебе без меня не жить… Но поедем вдвоем, без него… — Он посмотрел на меня.
— Да, правильно, без него! — пылко согласилась Анна. — Он плохой! Он мне никогда не нравился!
С ума сошли они оба… (До сих пор в памяти стоит: Анна, рухнувшая на колени перед Петром Ильичом и прильнувшая к руке его, как к святыне…) Я поднялся и пошел в «Хоф». Жизнь удлинялась на несколько часов или дней, и так остро чувствовались запахи утра. Ни в центре города, ни на прилегающих улицах оживления не было. В полуподвале «Хофа» уже открылся буфет, подъехали подкрепиться мотоциклисты полевой жандармерии. Позвонил Химмель, спросил, как идут дела, это был его традиционный утренний звонок. На башенных часах пробило девять. По вчерашнему плану полагалось уже выехать всем троим на машине, покрутиться по городу, узнать, кто дежурит на заставах, прокатиться мимо особняка средней скоростью, не вызывая подозрений.
Так где же Игнат?
Телефон звякнул: Химмель. Голос обеспокоенный: «У вас там все в порядке?.. Ничего не случилось?» Нет, ничего не случилось. Еще звонок, еще вопрос, вполне безобидный, но после вопроса — пауза, рассчитанная на заполнение ее встречным вопросом собеседника. И наконец в дверь громко стукнули, ворвался Гарбунец, во все лицо — влажный улыбающийся рот. «Пан управляющий, вы ничего не знаете еще?.. Ай-яй-яй…»
Выслушал его спокойно, пожал плечами: война, что поделаешь, всякое бывает… Но мысль уже работала — толчками, ударами, как кровь под пальцами, когда ими зажимаешь фонтанирующую рану. Еще два телефонных разговора, ахи и охи. Теперь все ясно.
Шестерка уничтожена. В полном составе, сразу же после девяти утра. В штабе гарнизона. Шесть человек спали в разных концах города, позавтракали врозь, но в штабе сошлись, ибо не сойтись они не могли, им надо было сойтись перед поездкой в особняк, им надо было еще раз обсудить операцию. Обсудили, вышли из кабинета, и здесь, в коридоре, к ним приблизился офицер с портфелем. Взрыв разметал всех, размазал по стенам, по полу.
Этим офицером мог быть только Игнат. «Наша судьба не ваша судьба…»
С каким-то сладострастием увязывал я пакет с зубрятиной, отлично зная, что пилота перехватят, привезут в гестапо, подрывных дел мастера сгрудятся вокруг пакета с мясом, станут искать подступы к взрывному устройству…
Бежать надо было — ранним утром, в Варшаву, затеряться там, нащупать новые связи… Поздно уже.