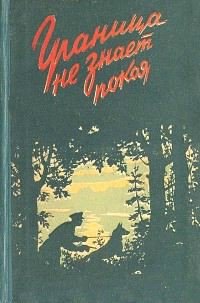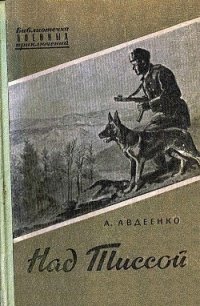Антология советского детектива-41. Компиляция. Книги 1-20 (СИ) - Авдеенко Александр Остапович (читать лучшие читаемые книги TXT) 📗
Никто не ответил, и, приподняв раму, он открыл окно. Наружный зной тут же хлынул в купе, но это было хоть какое-то движение воздуха.
— Эк вы, господин студент! — пробурчал военный с погонами пехотного капитана, и по тому, как было это сказано, нельзя было понять, одобряет он прапорщика или, наоборот, осуждает. Очевидно, и сам он не знал этого.
Прапорщик, которого он назвал студентом, нервно поправил пенсне. И нужно же ему было проговориться, что он попал в армию из Владивостокского института восточных языков! Прозвище «студент» прочно пристало к нему в пути, и одно утешение было, что по прибытии пути всех расходились и оно не последует за ним в штаб корпуса, куда имел он назначение как переводчик.
На отделении, где учился прапорщик, изучалась классическая японская литература, история, философия — предметы, от военных дел весьма удаленные. Но в дни, когда рядом шла война и сверстники отправлялись в окопы, невозможно было, уважая себя, пребывать в стороне от всего этого. Тем более молодому человеку, знавшему то, что знали немногие, — язык врага.
— Ваш поступок весьма патриотичен, — произнес пожилой военный чин, выправлявший ему бумаги. Он подышал на печать и ловко ее оттиснул. — Наверное, вы знаете из газет, что у нас не хватает офицеров допрашивать японских пленных. Приходится привлекать переводчиков-китайцев, которые ненадежны. К тому же они почти не знают русского. А японский и того хуже.
Когда, в какой жизни говорилось ему все это? Между тем разговором во Владивостоке и этим вагоном, казалось, легла вечность.
Прапорщик машинально стряхнул пыль, осевшую на гимнастерке, и посмотрел в окно. Там тянулась все та же монотонная равнина, изредка прерываемая плавными холмами у горизонта.
— Кто не знает, господа, — пояснил капитан, которому довелось уже бывать здесь, — те холмы называются здесь сопки.
Но это все уже знали.
Время от времени дорога делала плавный изгиб, и тогда из окна виден был паровоз английской конструкции, непривычного вида — удлиненный и низкий, и было видно белое облачко пара, неотрывно следовавшее над ним. Словно догадываясь, что все смотрят на паровоз, машинист давал гудок. Чужой и высокий звук разносился по такой же чужой маньчжурской степи.
Ночами эшелоны, следовавшие на юг, отводились на запасные пути. Навстречу им на север с приглушенными огнями двигались другие. В них на деревянных, наспех сбитых скамьях лежали, покачиваясь в такт вагонному ходу, раненные и изувеченные в боях. К каждому такому составу последним прицеплялся пустой вагон. Окна его были глухо забиты. Легкораненые, у которых хватало сил высовываться из окон, старались не смотреть в его сторону. Вагон этот с жестокой предусмотрительностью был уготован для тех, кому суждено было умереть, не пережив дороги. Они все были еще живы и думали, что останутся жить.
Разумно полагая, что вид этих эшелонов не способен придать бодрости войскам, следующим на позиции, начальство распорядилось планировать их движение так, чтобы встреч было по возможности меньше.
Прапорщик снял пенсне и попытался соснуть. Но сон не шел.
— Батальонный говорил мне, — слышал он сквозь дрему голос пехотного капитана, продолжавшего какой-то разговор, начатый ранее, — у него свояк пять лет в Порт-Артуре на кораблях служил. Говорил он мне, что только слепому не видно было, что затевают японцы. То они шныряли по всему городу и даже по крепости, так что русского человека не видно из-за них было, а то совсем исчезли. Лавочки свои позакрывали, попродавали, кто успел. За день до войны, говорит, ни одного япошки в городе не было. Тогда все наши диву давались, что это они разбежались? Смекнули, когда снаряды над крепостью рваться стали.
Прапорщик потер глаза, снова надел пенсне и кашлянул.
— Позволю себе дополнить, — вставил он и остался доволен тем, как произнес это — так свободно, спокойно, как свой среди своих. — Двадцать четвертое января, господа, у нас во Владивостоке этот день никто не забудет. В порту в тот день творилось невероятное: с детьми, с вещами японцы бежали как от пожара. Только на английском пароходе «Афридж» уехало в тот последний день их две тысячи. Само собой они знали, что готовилось.
— И знали — когда! — рубанул капитан воздух ладонью.
— Да, — согласился прапорщик и поправил пенсне. — Доподлинно знали они эту дату — двадцать пятое января. Еще с рождества началась такая распродажа, только хватай! Себе в убыток продавали. И знаете что? В японских лавках значилась та же дата — распродажа не позднее 25 января! Нет, уверяю вас, они точно знали, когда начнется!
— Наши только почему не знали?! — высунулся было один из прапорщиков, в погонах, таких же новеньких, как у «студента», но тут же стушевался потому, что здесь был старший по званию, а слова его предполагали как бы некоторое неудовольствие высшим начальством и даже критику.
— Измена! — отрубил капитан. — На каждого нашего солдата здесь до войны по два японца сидело. И неизвестно, сколько еще сейчас осталось. Вот в Благовещенске был случай…
Все наперебой стали рассказывать «шпионские истории», причем чем фантастичнее они были, тем охотнее верили им.
«Студент» посмотрел на свое отражение в оконном стекле. Увидел нечто продолговатое в пенсне, украшенное гладким пробором, и остался собой недоволен. О том, что позволяли себе японцы накануне войны и что происходило сейчас, он знал, наверное, лучше других, ехавших в этом купе. Но промолчал: распространяться об этом со случайными своими попутчиками было бы неуместно. То, что он знал, знать другим не полагалось, и это возвышало его в собственных глазах. Но поскольку другие не догадывались об этом тайном его превосходстве — было немного обидно. Будто он хуже этих других.
То же, что было ему известно, он знал со слов полковника генерального штаба, который пригласил его для беседы накануне отъезда. Трудно сказать, была ли это беседа или инструктаж — попытка на скорую руку ввести прапорщика в курс дел, которыми ему предстояло заняться.
— Мы говорили с вами час двадцать минут, — сказал полковник, поднося к глазам серебряную луковицу часов. — Я обязан считать, что подготовил вас для будущей вашей миссии. Учтите, в японской армии на это уходят, очевидно, недели, может, месяцы. Помните об этом и не приведи бог полагать себя умнее или хитрей неприятеля.
Но именно к этому сводилась некая тайная его мысль. Про себя он называл ее «Идея» с заглавной буквы.
— Заведующему разведкой, — заключил офицер,— передайте поклон от меня. Скажите, полковник Самойлов хорошо помнит его по Болгарии…
В купе между тем «шпионская тема» не иссякала.
— А кто слышал, господа, о есауле, который оделся в японский мундир и шашкой зарубил их генерала?
Поскольку никто не слышал, капитан поведал одну из тех легенд, которые появляются во всякой армии, когда ей приходится плохо.
— А где ж есаул по-японски говорить научился? — спросил кто-то из прапорщиков, когда капитан кончил рассказ.
Спросил не с сомнением, а только для того, чтобы получить еще одно свидетельство есаульской лихости. И получил его.
— А ему и не надо было! Как кто ему скажет что, он только зубы оскалит — «пошел», мол, у них это знак такой, и за шашку! От него и отставали. И физиономией схож оказался. Из калмыков, говорят. А уж как генерала-то этого достал, тут уж он по-русски им крикнул, чтоб знали — за наших, мол, ребятушек! Вскочил на коня — и был таков!
— Не догнали?
— Куда там! Ушел. Потом сам господин командующий, генерал Куропаткин, ему, говорят, «Георгия» вручали. Однако газетам писать о том запрещено было, и даже фамилии есаула никто не знает. Есть, значит, у командования на этот счет свои виды…
И по тому, как он сказал это и замолчал, можно было понять, что он, капитан, видам этим некоторым образом причастен.
То, что мог бы рассказать «студент», выглядело куда менее драматично. Никто шашкой никого не рубил и на коне не скакал. Все было прозаично, анонимно, но от этого только страшнее.