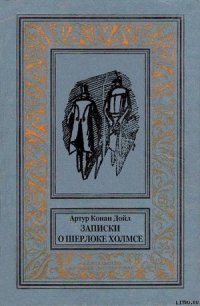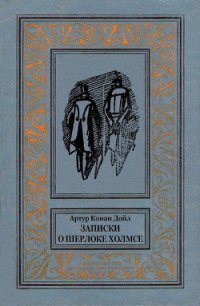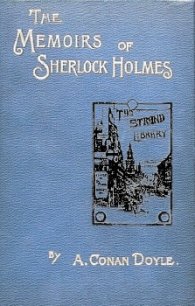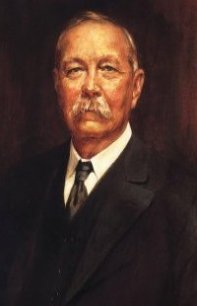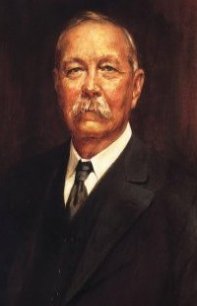Дьяволова нога - Дойл Артур Игнатиус Конан (чтение книг .TXT) 📗
Я никак не предполагал ни того, что слова Холмса сбудутся так скоро, ни того, каким странным и жутким окажется наше новое открытие, повернувшее розыски в совершенно ином направлении. Утром, когда я брился, я услышал стук копыт и, выглянув из окна, увидел двуколку, которая во всю прыть неслась по дороге. У наших ворот лошадь стала, из двуколки выпрыгнул наш друг-священник и со всех ног помчался по садовой дорожке. Холмс был уже готов, и мы с ним поспешили навстречу.
От волнения наш гость не мог говорить, но в конце концов, тяжело дыша и захлебываясь, он выкрикнул:
— Мы под властью дьявола, мистер Холмс! Мой несчастный приход под властью дьявола! — задыхался он. — Там поселился сам Сатана! Мы в его руках! — Он приплясывал на месте от возбуждения, и это было бы смешно, если бы не его посеревшее лицо и безумные глаза. И тут он выпалил свои ужасные новости:
— Мистер Мортимер Тридженнис умер сегодня ночью точно так же, как его сестра!
Холмс мгновенно вскочил, полный энергии.
— Хватит места в вашей двуколке?
— Да!.
— Уотсон, завтрак позже! Мистер Раундхэй, мы готовы! Скорей, скорей, пока там ничего не тронуто!
Мортимер Тридженнис занимал в доме священника две угловые комнаты, расположенные обособленно, одна над другой. Внизу была просторная гостиная, наверху — спальня. Под самыми окнами — крокетная площадка. Мы опередили и доктора и полицию, так что никто еще сюда не входил. Позвольте мне точно описать сцену, которую мы увидели в это туманное мартовское утро. Она навеки врезалась в мою память.
В комнате был невероятно удушливый, спертый воздух. Если бы служанка не распахнула окно рано утром, дышать было бы совсем невозможно. Это отчасти объяснялось тем, что на столе еще чадила лампа. У стола, откинувшись на спинку кресла, сидел мертвец; его жидкая бородка стояла торчком, очки были сдвинуты на лоб, а на смуглом, худом лице, обращенном к окну, застыло выражение того же ужаса, которое мы видели на лице его покойной сестры. Судя по сведенным судорогой рукам и ногам и по переплетенным пальцам, он умер в пароксизме страха. Он был одет, хотя мы заметили, что одевался он второпях. И так как мы уже знали, что с вечера он лег в постель, надо было думать, что трагический конец настиг его рано утром.
Как только мы вошли в роковую комнату, Холмс преобразился: внешнее бесстрастие мгновенно сменилось бешеной энергией. Он подобрался, насторожился, глаза его засверкали, лицо застыло, он двигался с лихорадочной быстротой. Он выскочил на лужайку, влез обратно через окно, обежал комнату, промчался наверх — точь-в-точь гончая, почуявшая дичь. Он быстро оглядел спальню и распахнул окно; тут, как видно, появилась новая причина для возбуждения, потому что он высунулся наружу с громкими восклицаниями интереса и радости. Потом он промчался вниз, выбежал в сад, растянулся на траве, вскочил и снова кинулся в комнату — все это с пылом охотника, идущего по следу. Особенно он заинтересовался лампой, которая с виду была самой обычной, и измерил ее резервуар. Затем с помощью лупы тщательно осмотрел абажур, закрывавший верх лампового стекла, и, соскоблив немного копоти с его наружной поверхности, ссыпал ее в конверт, а конверт спрятал в бумажник. Наконец, после появления полиции и доктора, он сделал знак священнику, и мы втроем вышли на лужайку.
— Рад сообщить вам, что мои розыски не остались бесплодными, — объявил он. — Я не намерен обсуждать это дело с полицией, однако вас, мистер Раундхэй, я попрошу засвидетельствовать мое почтение инспектору и обратить его внимание на окно в спальне и лампу в гостиной. И то и другое в отдельности наводит на размышления, а вместе приводит к определенным выводам. Если инспектору понадобятся дальнейшие сведения, буду рад видеть его у себя. А теперь, Уотсон, я думаю, нам лучше уйти.
Возможно, инспектора уязвило вмешательство частного сыщика, а может быть, он вообразил, что находится на верном пути, во всяком случае, в течение двух дней мы ничего о нем не слышали. Холмс в это время мало бывал дома, а если и бывал, то дремал или курил; свои продолжительные прогулки он совершал в одиночестве, ни словом не упоминая о том, где ходит. Однако один опыт Холмса помог мне понять направление его поисков. Он купил лампу — такую же, как та, что горела в комнате Мортимера Тридженниса в утро трагедии. Заправив ее керосином, каким пользовались и в доме священника, он тщательно высчитал, за какое время он выгорает. Другой его опыт оказался гораздо менее безобидным, и, боюсь, я не забуду о нем до самой смерти.
— Вы, вероятно, помните, Уотсон, — начал он как-то, — что во всех показаниях, которые мы слышали, есть нечто общее. Я имею в виду то, как действовала атмосфера комнаты на тех, кто входил туда первым. Помните, Мортимер Тридженнис, описывая свой последний визит в дом братьев, упомянул, что доктор, войдя в комнату, чуть не лишился чувств? Неужто забыли? А я прекрасно помню. Дальше: помните ли вы, что экономка, миссис Портер, говорила нам, что ей стало дурно, когда она вошла, и она открыла окно? А после смерти Мортимера Тридженниса не могли же вы забыть ужасную духоту в комнате, хотя служанка уже распахнула окно? Как я узнал потом, ей стало до того плохо, что она слегла. Согласитесь, Уотсон, это очень подозрительно. В обоих случаях одно и то же явление — отравленная атмосфера. В обоих случаях и комнатах что-то горело. В первом случае — камин, во втором — лампа. Огонь в камине был еще нужен, но лампу зажгли после того, как рассвело, — это видно по уровню керосина. Почему? Да потому, что есть какая-то связь между тремя факторами: горением, удушливой атмосферой и, наконец, сумасшествием или смертью этих несчастных. Надеюсь, вам ясно?
— Да, как будто ясно.
— Во всяком случае, мы можем принять это за рабочую гипотезу. Предположим затем, что в обоих случаях там горело некое вещество, отравившее атмосферу. Превосходно. В первом случае с семьей Тридженнисов это вещество было брошено в камин. Окно было закрыто, но ядовитые пары, естественно, уходили в дымоход. Поэтому действие оказалось слабее, чем во втором случае, когда у них не было выхода. Это видно по результатам: в первом случае умерла только женщина, как более уязвимое существо, а у мужчин временно или безнадежно помрачился рассудок, что, очевидно, является первой стадией отравления. Во втором случае результат достигнут полностью. Таким образом, факты подтверждают теорию об отравлении при сгорании некоего вещества.
Исходя из этого, я, разумеется, рассчитывал найти в комнате Мортимера Тридженниса остатки этого вещества. По всей видимости, их надо было искать на ламповом абажуре. Как я и предполагал, там оказались хлопья сажи, а по краям — кайма коричневого порошка, который не успел сгореть. Если вы помните, половину этого порошка я соскоблил и положил в конверт.
— Почему только половину, Холмс?
— Становиться на пути полиции не в моих правилах, Уотсон. Я оставил им все улики. Найдут они что-нибудь на абажуре или нет — это уже вопрос их сообразительности. А теперь, Уотсон, зажжем нашу лампу; однако, чтобы не допустить преждевременной гибели двух достойных членов общества, откроем окно. Садитесь около него в это кресло… если, конечно, как здравомыслящий человек, вы не отказываетесь принять участие в опыте. О, я вижу, вы решили не отступать! Не зря я всегда верил в вас, дорогой Уотсон! Сам я сяду напротив, лицом к вам, и мы окажемся на равном расстоянии от лампы. Дверь оставим полуоткрытой. Теперь мы сможем наблюдать друг за другом, и, если симптомы окажутся угрожающими, опыт нужно немедленно прекратить. Ясно? Итак, я вынимаю из конверта порошок, или, вернее, то, что от него осталось, и кладу его на горящую лампу. Готово! Теперь, Уотсон, садитесь и ждите.
Ждать пришлось недолго. Едва я уселся, как почувствовал тяжелый, приторный, тошнотворный запах. После первого же вдоха разум мой помутился, и я потерял власть над собой. Перед глазами заклубилось густое черное облако, и я внезапно почувствовал, что в нем таится все самое ужасное, чудовищное, злое, что только есть на свете, и эта незримая сила готова поразить меня насмерть. Кружась и колыхаясь в этом черном тумане, смутные призраки грозно возвещали неизбежное появление какого-то страшного существа, и от одной мысли о нем у меня разрывалось сердце. Я похолодел от ужаса. Волосы у меня поднялись дыбом, глаза выкатились, рот широко открылся, а язык стал как ватный. В голове так шумело, что казалось, мой мозг не выдержит и разлетится вдребезги. Я попытался крикнуть, но, услышав хриплое карканье откуда-то издалека, с трудом сообразил, что это мой собственный голос. В ту же секунду отчаянным усилием я прорвал зловещую пелену и увидел перед собой белую маску, искривленную гримасой ужаса… Это выражение я видел так недавно на лицах умерших… Теперь я видел его на лице Холмса. И тут наступило минутное просветление. Я вскочил с кресла, обхватил Холмса и, шатаясь, потащил его к выходу, потом мы лежали на траве, чувствуя, как яркие солнечные лучи рассеивают ужас, сковавший нас. Он медленно исчезал из наших душ, подобно утреннему туману, пока к нам окончательно не вернулся рассудок, а с ним и душевный покой. Мы сидели на траве, отирая холодный пот, и с тревогой подмечали на лицах друг друга последние следы нашего опасного эксперимента.