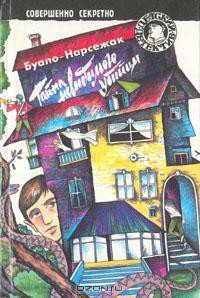В тесном кругу - Буало-Нарсежак Пьер Том (книги без регистрации бесплатно полностью TXT, FB2) 📗
Жюли не спеша идет к пристани. Доктор Муан прав. Она и в самом деле переживает сейчас если и не подъем, то удивительное спокойствие — оттого, что угрызения совести отступают куда-то далеко. Если бы он проявил больше настойчивости, она рассказала бы ему, как ей удалось расквитаться с Оливье. Она объяснила бы, что после происшествия на дороге между Глорией и ее мужем вспыхнула ссора. Как всегда, трагедия породила массу слухов. Болтали, что Глория вела машину нетрезвой, что она сильно превысила скорость: «Вы же знаете, эти люди думают, что им все позволено, раз они знамениты и богаты. Они могут делать с другими все, что заблагорассудится! Поверьте, это был не просто несчастный случай! Доказательство? А почему они держат взаперти пострадавшую? Почему они прячут ее в какой-то частной клинике во Флоренции?» В эту клинику действительно не пускали журналистов, а из персонала невозможно было вытянуть ни слова. «А вы знаете, кому принадлежит клиника? Некоему типу, известному своими связями с депутатом парламента Геннаро Бертоне, вице-президентом франко-миланской фармацевтической фирмы, а контрольный пакет акций этой фирмы по чистой случайности принадлежит Бернстайну». Падкие на скандалы газетенки принялись на все лады обсасывать происшествие. «Несчастный случай? А может быть, тщательно подготовленная диверсия? Как знать, не было ли у промышленного магната стычек с его свояченицей? И разве обе сестры — виртуозные музыкантши — не соперничали между собой?» Чтобы избежать закипающего скандала, Глория уехала на гастроли. Оливье вернулся в Париж — уладить кое-какие дела.
«А я, — вспоминала Жюли, — осталась одна, со всех сторон окруженная заботой, улыбками и комфортом, который был мне совсем не нужен. Даже боли меня лишили. Стоило мне чуть сморщиться, следовала доза морфия. Вот когда все началось».
Она уже на пристани. Катер поджидает ее. Марсель грузит в него ящики, коробки, корзинки.
— Новенькой вещички, — говорит он.
— Какой новенькой?
— Ну как же, мадам Монтано! Завтра будут мебель перевозить. Но для этого вызвали специалистов из Тулона. Увидите, что будет твориться. Ну, прыгайте. Сейчас отчаливаем.
Она садится на носу. Время от времени за бортом вскипают фонтанчики брызг, и капельки воды попадают ей на ноги. Воспоминания снова захватили ее. Депрессия — это мягко сказано. На самом деле она была тогда на грани помешательства. Глория потом старалась внушить ей, что они оставили ее одну во Флоренции ради ее же блага: ведь ей повсюду мерещились преследователи. Предводителем был ее зять, а Глория — его соучастницей. Когда в ней проснулись первые подозрения? Вообще когда она начала догадываться, что была лишней? Что она мешала им? И это по приказу Оливье ее одуряли морфием. Морфием, который производили как раз в его лабораториях. А может быть, он был воротилой наркобизнеса? Это была ни на чем не основанная догадка, своего рода бредовая идея, но зато как она все проясняла! Как будто перед ней с ослепительной четкостью предстал план ее уничтожения. Сначала руки. Затем голова. И все, она больше не соперница. Больше никто не скажет: «Конечно, Глория не лишена приятности. Но ее сестра гораздо тоньше и музыкальнее».
Вдруг ей становится стыдно. Ни к какому невропатологу она не пойдет. Не хватало еще, чтобы он докопался до уснувших в ее душе призраков. Да, мысль была безумной, как безумным было и анонимное письмо, которое она за кругленькую сумму в лирах надиктовала ночной сестре. Но при всей своей дикости ее догадка оказалась совершенно справедливой. Началось расследование, в результате которого открылся доселе никому неведомый канал сбыта наркотиков. А толчком послужило всего одно слово: «морфий». Оно было хуже самого яда, потому что его отравленные корни проникли к ней в душу. Бернстайн сумел выкрутиться, но ему пришлось развестись.
Остров уже совсем близко. Жюли немного подташнивает. Укачало в катере? Или это виноваты образы, что толкутся в ее голове? Иногда кажется, что прошлое окончательно умерло. Собственно, так оно и есть. Но от него остается эхо, которое тянется долго-долго, как бесконечная нота грустной песни, что звучит в тебе, хоть ты ее и не сочинял. Это анонимное письмо, оно было или нет? Как все это далеко! Да, но ведь они развелись, это-то ей не приснилось. А остальное?..
Катер причаливает к берегу, и Жюли словно просыпается. Уже пять часов. Дома, наверно, как всегда, полно народу. Глория собиралась сегодня слушать «Испанское каприччо» Римского-Корсакова и рассказать о Габриэле Пьернэ — дирижере, с которым была хорошо знакома. Жюли лучше войдет с черного хода. Впрочем, дома тихо. Неужели у Глории никого нет? Она чуть толкает дверь «концертного зала» и прислушивается. Что же могло случиться? Идет дальше и останавливается возле двери спальни.
— Глория! К тебе можно?
И слышит в ответ что-то вроде стона. Она заходит в комнату. Глория одна. Свет ночника безжалостно падает на ее вдруг постаревшее лицо. Парик сбился чуть набок, обнажив голый лоб, белый, как у скелета.
— Ты заболела?
— Меня вырвало после обеда.
— Кларисса вызвала врача?
— Да. Он говорит, желудочное расстройство. Как будто это что-то объясняет.
Ее голос понемногу крепнет, обретая привычные командные интонации:
— Осел он, ваш доктор. Я без него знаю, что со мной. Это все она. Проклятая мерзавка! Она метит на мое место.
— Помилуй, Глория, какое место?
— Ох, если бы мне попался тот, кто наболтал ей про наш остров! Это все этот чертов Юбер.
— Успокойся, — говорит Жюли. — Никто не претендует на твою почетную роль старейшины.
Глория заливается мелким злым смехом:
— Старейшины!
Она с силой опускает руку на запястье Жюли, крепко обхватив его.
— Ты должна мне помочь. Я уверена, она мошенничает, эта самая Монтано. Готова спорить, что ей от силы девяносто шесть, ну девяносто семь лет. Ты же понимаешь, наговорить можно чего хочешь. Я их хорошо знаю, этих интриганок. Есть действительно бывшие звезды, такие как Дитрих, Гарбо, — им больше ни к чему прятать свой возраст. Но Монтано еще иногда приглашают. Допустим, им нужна для телефильма древняя старуха. Вот они и говорят: «Надо позвать эту, столетнюю». Я читала про это в каком-то журнале. Сто лет — как же, это звучит! Никто не знает, чего стоит дожить до ста лет. А она этим пользуется. Я готова поклясться, что она сочинила себе историю про свое детство специально для газет, и это-то меня и бесит. Подумать только, как она прекрасно сохранилась! В таком возрасте такая живость, такое обаяние!
— Уверяю тебя, ты преувеличиваешь!
— Я преувеличиваю? Как же! Ты, видно, еще не знаешь, что не далее как сегодня утром она тут пела, а этот ее прихвостень аккомпанировал ей на рояле. И что пела? Какую-то итальянскую дичь, что-то вроде «фуни-тара-та-та».
— Фуникули-фуникула…
— Вот именно. Кейт сама слышала. И представь себе, ее это развеселило. А я заболела! Жюли, миленькая, я очень хочу, чтобы ты все разузнала. Ты ведь часто ездишь «на сушу», так купи мне «Историю кино», постарайся. Наверняка там будет что-нибудь о ней, что-то вроде биографической справки. — Она опускается на подушки. — Обещаешь?
— Конечно, — говорит Жюли.
— Спасибо.
— Тебе что-нибудь нужно?
— Ничего мне не нужно. Оставьте меня в покое.
Напоследок она еще раз смотрит на сестру. Да, Глория здорово задета, но без борьбы она не сдастся. Игра далеко еще не выиграна. Жюли не нравится эта ее мысль, но в то же время она не может не признаться себе, что ей страшно любопытно, как будут развиваться события. Ведь, в сущности, Глории впервые в жизни приходится обороняться. Жюли машинально передвигается, выполняя привычные действия: садится ужинать (сегодня у нее суп и макароны-ракушки с маслом), готовится ко сну (снимает косметику, умывается: лицо, руки, зубы — с особенной осторожностью, из-за протезов) и наконец раздевается (вступая в ежедневную битву с ночной рубашкой, все-таки более удобной, чем пижама) — и все это время мысленно как будто просматривает заснятый замедленной съемкой фильм о счастливой жизни Глории — баловницы судьбы. Да, ее подруги совершенно правы, когда без конца повторяют это. Глории действительно выпало на долю постоянное, незыблемое, почти неприличное счастье. Ей досталась красота — та сияющая красота, какой выделяются некоторые цветы, — и вдобавок талант. Даже не талант, для которого все-таки требуется труд, а некий дар, врожденная способность творить своими пальцами красоту. И конечно, эгоизм, прочно защищавший ее от любых невзгод. Опять-таки, это не был мелочный, пошлый эгоизм. Нет, ей никогда не приходилось упрекать себя в чем-либо постыдном. Просто она обладала какой-то внутренней убежденностью в собственной непогрешимости, всегда улыбалась и была непробиваема.