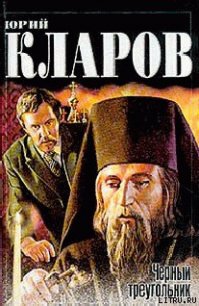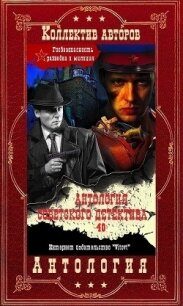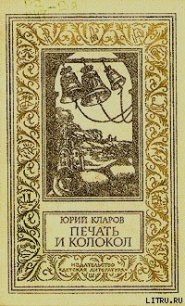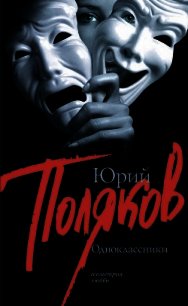Арестант пятой камеры - Кларов Юрий Михайлович (книга регистрации txt, fb2) 📗
Подпольщик, как и всякий человек, имеет право на эмоции, но пользоваться этим правом он может отнюдь не всегда. Кажется, слова эти принадлежали Арнольду Нейбуту, а может быть, Парубцу или Михаилу Рабиновичу. Но как бы то ни было, а они достаточно четко формулировали требования, предъявляемые к подпольщику. И Стрижак-Васильев никогда не злоупотреблял естественным правом на эмоции. Да и помимо всего, в теплушке с походным курятником и остатком обоев на стенах не было никакого Стрижак-Васильева. Стрижак-Васильев остался в освобожденном Пятой армией Омске, а здесь находился монархист, анненковец, кадровый офицер, который хотя и брезговал карательными акциями, но тем не менее, подчиняясь присяге и необходимости, неоднократно принимал в них участие. И, не одобряя разнузданности, он относился к происходящему как к печальному, но, впрочем, вполне понятному и простительному явлению. И если анненковец мало пил, то объяснялось это не пренебрежением к офицерскому обществу, а контузией. В остальном же он ничем не выделялся среди других офицеров эшелона, стремившихся поскорей попасть в Новониколаевск, город, который генерал Каппель обещал превратить в грозную крепость.
Новониколаевск. Там находились штабы Второй и Третьей армий, резервы фронта, собранная в кулак тяжелая артиллерия, чешские полки, ломящиеся от добра склады союзников. Там можно было наконец передохнуть, осмотреться, привести себя в порядок. А потом… Но стоит ли думать над тем, что будет потом?
Ночью, не доезжая двадцати верст до станции Чулымская, поезд внезапно остановился. Ни разъездов, ни станций здесь не было. Один из прапорщиков отправился выяснять причину остановки. Через несколько минут после того, как он выскочил из теплушки, застучали выстрелы.
Штабс-капитан, спавший, казалось, беспробудным сном, молниеносно вскочил с нар, задул керосиновую лампу и задвинул засов на двери. Видимо, как и у всех пессимистов, у него был достаточно хорошо развит инстинкт самосохранения…
- Завидую вашей резвости, - сказал Стрижак-Васильев.
- Ну, умереть и жениться никогда не поздно… - огрызнулся тот. - Повстанцы?
- Наверно.
Штабс-капитан выругался, а Стрижак-Васильев подумал, что самым глупым было бы погибнуть сейчас от партизанской пули и в обличье белогвардейского офицера.
Поезд дернулся, проехал немного назад и вновь остановился.
- Что же теперь будет? - тихо спросил Прошин. Ему никто не ответил.
Стрижак-Васильев нащупал карабин, поставил на боевой взвод курок, надел полушубок и шапку.
Под полом вагона истерически кудахтали перепуганные куры.
Шепотом молилась Прошина. Прерывисто и тяжело дышала больная тифом.
Покинуть эшелон - значило замерзнуть в пути. Что же делать? Стрелять в своих?
- В третьем вагоне пулеметная команда, - откашлявшись, сказал штабс-капитан. - Но я не слышу пулемета…
- Видимо, они успели обменять его на самогон, - объяснил Стрижак-Васильев, - и теперь, так же как и вы, лежа на нарах, ждут, пока нас всех не перестреляют… Пошли!
Он взял карабин и, открыв дверь, выпрыгнул на железнодорожное полотно. Вслед за ним спрыгнули прапорщик и штабс-капитан. Прапорщик, обутый в бурки на кожаной подошве, поскользнулся на льду и, балансируя на ногах, скатился с насыпи вниз.
- Ничего, молодой человек, там безопасней, - успокоил его штабс-капитан. Но прапорщик предпочел вскарабкаться обратно.
- Что будем делать, господин капитан? - спросил он у Стрижак-Васильева.
- Любоваться природой, разумеется…
Вдоль всего состава кляксами на промокашке темнели размытые ночью фигуры людей. Кто-то пытался подавать команды, и небольшая группа в центре состава залегла под насыпью. Визжали женщины. Тут и там блестели вспышки выстрелов. Стреляли для устрашения, потому что определить, где находятся партизаны, было совершенно невозможно. Застучал пулемет. Стрижак-Васильев ошибся: обменять на самогон его еще не успели…
Шелестела снегом поземка. Ветер резал глаза, вышибая слезы. Метались охваченные паникой люди. В плечо Стрижак-Васильева вцепилась чья-то рука.
- Вы живы, капитан?
- Как видите.
От «фронтового друга» пахло потом и спиртом. Мокрые, слипшиеся волосы нависали на лоб, а в круглых и желтых, как у кошки, глазах застыл ужас.
- Поезд окружен, капитан!
- Откуда вы это взяли?
- Окружен, можете мне поверить… Мы в кольце… - «Фронтового друга» трясло. - Сопротивление бесполезно…
Когда они добрались до паровоза, стрельба почти прекратилась. Видно, совершивший нападение партизанский отряд был слишком малочислен и, наведя панику, решил отойти от линии дороги, где с минуты на минуту ожидали появления застрявшего на промежуточной станции чешского бронепоезда.
Человек двадцать во главе с военным врачом, обмениваясь впечатлениями, растаскивали завал из бревен. В свое время Стрижак-Васильев направлял в отряды, оперирующие в тылу Колчака, специалистов минного дела. Но их было слишком мало…
Минут через десять подошел бронепоезд, и эшелон вновь тронулся в путь…
- Мы вроде колобка, - философствовал повеселевший штабс-капитан, - и от бабушки ушли, и от дедушки… Да-с. Вот только как бы лиса не встретилась…
Опасения штабс-капитана оказались не напрасными. Дальше станции Чулымская смешанный эшелон не пошел.
Закутанный в доху французский офицер заявил через переводчика, что он весьма сожалеет, однако вынужден выполнить полученное им предписание: паровоз необходим для военных нужд, и состав временно будет отведен в тупик.
Что означает слово «временно», все знали достаточно хорошо. Поэтому к французу для переговоров отправили делегацию беженцев и старшего в эшелоне офицера - пожилого, коренастого полковника. Но это ничего не дало. А когда толпа русских на перроне стала вести себя слишком шумно, на них нацелились стволы бронепоезда, а чешские солдаты молча выкатили на крыльцо станционного здания два пулемета. Затем вышел переводчик, черноусый ротмистр с осиной талией, и сказал, что лейтенант Глорье боготворит Россию и кровь доблестных русских воинов для него так же дорога, как кровь его соотечественников, поэтому он молит бога, чтобы затесавшиеся среди офицеров и солдат большевистские элементы не вынудили его пролить эту кровь…
- А ротмистр неплохо устроился, - с завистью сказал штабс-капитан. - Предусмотрительный юноша. - И пожаловался: - А я в гимназии по французскому языку выше единицы не поднимался…
От Чулымской до Новониколаевска было не менее семидесяти-восьмидесяти верст, а все вновь прибывающие эшелоны тут же расформировывались. Но все же через сутки с небольшим Стрижак-Васильеву удалось покинуть негостеприимную станцию. Кто-то поджег ночью вещевой склад. Лейтенант Глорье, решив - и не без основания, - что это дело рук русских, произнес блестящую обличительную речь, но счел за благо избавиться от излишка русских солдат и офицеров. Поэтому к станции стали стягивать крестьянские кошевы. В одной из них нашлось место для штабс-капитана и Стрижак-Васильева…
До Новониколаевска добрались без особых приключений. Но на окраине города их задержала казачья застава.
Забайкалец-хорунжий, плосколицый, с бритой головой - видно, после тифа, - проверил документы и сказал:
- Есть приказ: всех прибывающих офицеров направлять в комендатуру.
Штабс-капитану по каким-то соображениям это не понравилось, еще меньше устраивала подобная перспектива Стрижак-Васильева…
- А может быть, обойдется без комендатуры?
- Приказ, - повторил хорунжий, но по его лицу было видно, что он озяб, устал и ему надоели все приказы…
Стрижак-Васильев молча достал подаренную комендантом станции бутылку спирта, и в глазах хорунжего появилось что-то похожее на участие. Он провел их в маленький заброшенный домик, где на покрытом клеенкой столе мгновенно появились хлеб и соленые огурцы.
- Чем богаты, тем и рады… Прошу, господа. Выпив не закусывая стакан спирта, спросил:
- Как на фронте, табак дело?
- Не табак, а махорка-с, хорунжий, - сказал штабс-капитан. - И дрянная махорка…