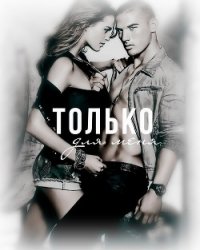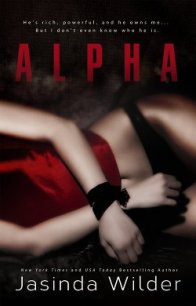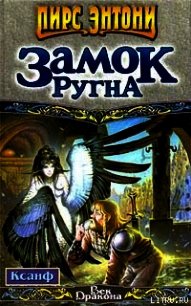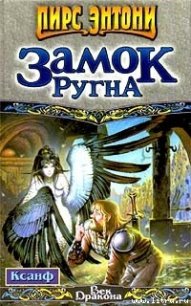Черный замок Ольшанский - Короткевич Владимир Семенович (книги бесплатно без .TXT) 📗
Где их следы, где твои следы?
Кто их найдет, кто найдет тебя?
Да, кажется, я читал это там. Сто против одного, что этот «обвальщик» и «настоящего» Филдинга не читал. Но рассуждать он должен был приблизительно так.
А что это так взволновало меня в собственных словах: «Я достану их, даже если в землю зароются. Вместе с прошлым и настоящим»?
События, слова, факты, слухи — все они совсем недавно были горстью разноцветных стеклышек, а теперь, словно помещенные в какой-то волшебный калейдоскоп, который стал медленно вращаться, постепенно начали складываться в геометрический рисунок, имеющий и симметрию, и даже кое-какой порядок.
Я опять прошелся по нашей тюрьме: следов, кроме наших, не было. К сожалению, спускаясь, я не посмотрел, были ли они на ступеньках. Если были, значит, те, немного спустившись по лестнице, самого подземелья не рассматривали и могли не заметить отверстий, через которые приходил к нам воздух.
По их расчету, мы не должны были умереть от жажды на какой-то там третий или четвертый день. Мы должны были умереть от удушья через каких-то там несколько часов.
Они не хотели рисковать. Несколько дней — это слишком много. Вот катастрофа, пара часов и удушье — это был верняк.
Холодная ярость охватила меня. Погибать из-за какой-то сволоты? Ну, н-не-ет! А калейдоскоп работал и работал, и стеклышки с тихим щелканьем занимали свои места.
Все. Во всяком случае многие. Вплоть до слов про «страшные яйца», которые говорили над пьяным Вечеркой те, неизвестные. Мои, и Сташки, и всех нас враги. Стоило лишь взглянуть на яйцеобразную форму подземелья. А одно ли оно здесь такое?
Так, калейдоскоп складывался в рисунок. Но кто, кто из живых узнает, что он сложился в моей голове во что-то логическое?
Никто.
Я взял свечу и пошел к отдушине. Язычок огня все больше оттягивало в ту сторону. Значит, откуда-то поступал воздух. Может, плиты не так уж плотно завалили люк.
Отставив руку со свечой, я начал ощупывать кладку. Да, в ней действительно была отдушина с ржавой крестообразной решеткой. Куда она вела? А черт его знает! Может быть, в другой такой же подвал. «Допустим, ты пробил головою стену. И что же? Ты оказался в соседней камере…»
— Возьми, Сташка, свечу, — сказал я. — Держи в стороне от тяги.
Освободив правую руку, я подпрыгнул, ухватился за решетку и начал раскачивать ее (или, может, качаться на ней?).
Все это было пустым делом. Даже выломай я проржавевшее железо, кто бы пролез в дырку размером двадцать на двадцать пять сантиметров? Но я был неспособен рассуждать логично ни о чем, кроме моего «калейдоскопа». И я качался и качался, то подтягиваясь к решетке на руках, то отстраняясь, с силой распрямляя согнутые ноги, которыми упирался в стену.
Показалось, что ли, но в какой-то момент мне сдалось, что решетка и нижний камень кладки в самом деле слегка «ходят», как шаткий зуб.
Я спрыгнул немного отдохнуть и увидел, что от вертикальной перекладины решетки вьется, бежит среди камней узкая трещинка.
И тут я понял, что поступил правильно, начав эти «экзамены на обезьяну». Так она и вмуровывалась в свое время, решетка, в каменную кладку: минимум два камня были двойные или с большими выемками. Два конца «креста» входили в выемки, а два других просто всовывались в проемы, а потом эти проемы заполнялись крепкой цемянкой. Цемянка не выдержала.
Я снова повис на решетке. Длилось это целое столетие. Во всяком случае первая свеча уже догорела, и Сташка зажгла вторую.
Первый камень выпал снизу… Второй, зараза, держался, словно у него были корни. Тысячи корней. Но наконец хлопнулся мне под ноги и он.
Камень на камень.
— Становитесь, Сташка. Я вас подниму и, простите, протолкну, ногами вперед.
В первый и последний раз я держал ее на руках. В стороне горела воткнутая в мусор предпоследняя наша свеча. Чувствовал сквозь легкое платье теплоту и округлость ее ног. Потом, когда они исчезли в бреши, твердую округлость груди.
А у глаз моих, в полумраке были ее глаза, и прядка ее волос легко щекотала мне висок.
— Стали?
— Кажется, утвердилась, — шепотом ответила она из-за стены.
Я пошел за огнем, потом двинулся к пролому. И вдруг услыхал приглушенный крик. Оглянулся. Завал вверху за моей спиной угрожающе прогибался. И тогда я бросился бегом, сунул свечу в ее руку.
— Отступите.
Должно быть, так прыгают сквозь огненный круг львы в цирке. Во всяком случае пролом я почти пролетел, приземлился на четвереньки, и целое море пламени охватило мою голову, рассыпавшись потом огненно-зелеными искрами.
— Живы?
— Жив. Руку, кажется, слегка подвернул.
Мы, как сговорившись, глянули назад в пролом и ужаснулись. Нижняя плита держалась одной стороной. Едва держалась.
Достаточно было кинуть в нее камнем, — да что там, — даже просто, казалось, кашлянуть или крикнуть, и все это обрушилось бы вниз, мозжа и давя все живое. Путь к лестнице был отрезан. И даже если бы мы специально вызвали эту лавину — неизвестно, не засыпала бы она тот пролом, через который мы попали сюда. А куда попали? Мы обошли вокруг точно такое же подземелье, такое же «страшное яйцо», только глухое и с сильно разрушенной лестницей. И никакого выхода. И здесь была отдушина, только вдвое меньше и без решетки. И, значит, расширить ее было нельзя никак.
И еще — слабая надежда — окошко вверху размером с ладонь. Это окошко не было темным. Это было слабое пятно света, дневного света, который падал откуда-то сверху и освещал даже какую-то достойную жалости былинку, росшую, по-видимому, на дне какого-то колодца или просто ямы, куда и выходила отдушина.
Обессилевшие, мы сели прямо на плиты и, честно говоря, пали духом настолько, что опустили головы. Это было уже действительно все.
В самом деле, слабым утешением было то, что они, если они были, не знали о существовании соседних камер, и потому мы не задохнулись и не были уже мертвы, похоронены под обвалом.
Наша удача означала только более медленную смерть. И если мои кошмары несли в себе хоть зерно правды — ну что ж, у того, что было похоронено здесь разными людьми, теперь будет четыре стража.
— Ничего, ничего, Сташка, — сказал я. — Ну, перестань, перестань. Все еще не так уж плохо. Мы придумаем что-нибудь, чтобы выбраться. Наконец, мы сожжем на последней свече что-либо из одежды. Неужто не найдут, хотя бы по струйке дыма? Да найдут. Конечно, найдут.
— Не утешайте меня, — тихо сказала она. — Здесь сотни дымов из печных труб… Кто обращает на них внимание? Нет, надо смотреть правде в глаза. Это — конец.
Плечи ее задрожали. Мне показалось, что она плачет, что вообще вся ее маленькая фигура есть живое воплощение отчаяния.
— Не плачь, — сказал я и погладил ее по голове. По этим чудесным волосам цвета красного дерева с золотом, которые никто в мире — а я первый — не решился бы назвать рыжими. Да они и не были такими.
— Я не плачу, — неожиданно твердым и даже сухим, возможно, от безнадежности, голосом сказала она. — Мне обидно другое.
— Что?
— Теперь уже можно сказать. Потому что все равно ничего не изменится.
— Что такое? — одними губами спросил я.
— Мне обидно, что ты не заметил… Не заметил, что я едва не с самого начала люблю тебя…
— Перестань, — сказал я. — Это я, это я не хотел, чтобы ты заметила. Я прожил больше тебя, так много, так бесстыдно много, что не имею права…
— Ты на все имел право… Я очень, очень люблю тебя. И мне все равно, что ты этого прежде не знал — теперь знаешь. И мне все равно, что мы здесь и не выйдем отсюда. Потому что это мы здесь. Ты и я. И других у нас, даже если бы случилось непоправимое и я перестала бы любить тебя так, как любила, уже не будет. Не думай. Я счастлива этим.
— И я счастлив, что помогло горе, что я услышал это. Потому что я никогда бы не решился сказать тебе… Хотя я желал бы, чтобы ты жила долго-долго, пока существует этот проклятый, этот благословенный мир. Больше всего на свете хотел бы, чтобы ты жила. Я очень, очень люблю тебя. И мне легко сейчас признаться в этом.