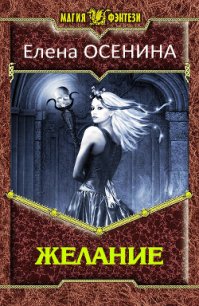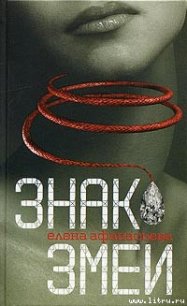Колодец в небо - Афанасьева Елена (бесплатные серии книг TXT) 📗
До приезда в Петербург глуховский гимназист едва ли не наизусть выучил найденную в запертом ящике отцовского письменного стола брошюру «Сто способов распознать в своем ребенке грех рукоблудия», и точно знал, как в будущем не дать впасть в грех своим детям. Но не знал, как избавиться от указанного греха самому. И как избавиться от стыда за подобный грех.
Первый допуск в женское тело, совпавший с трущейся о ногу Клотильдой, стал избавлением от стыда – уже не рукоблудие! И началом стыда нового – только бы никто не узнал! Только бы никто не помыслил, что он может с этой толстой старухой!
Хуже стало уму, но измученному стремительным созреванием юному телу стало легче. А несколько лет спустя, в 1914-м, уже не мальчиком, а молодым, вполне уверенным в себе мужчиной, спрятавшись от извозчичьего шума и гула снующих по Кадетской линии авто, он бежал по солнечной брусчатке Тучкова переулка на другую сторону Васильевского носа – к Ахматовой. И, не доходя до Среднего проспекта, увидел, как повесившие кошку грязные уличные оборвыши сняли еще теплый трупик и освежевывают то, что еще недавно мяукало и ловило мышей. Клоки кошачьей шерсти с не успевшими засохнуть капельками крови ветром гнало по переулку. Один прилип к его недавно купленным у Дювэ брюкам, как несколькими годами ранее к простеньким шерстяным брючкам приехавшего с черниговского хутора юнца липли клочья любимицы мадам Пфуль.
Ему показалось, что освежевали само его представление о любви. Тошнота подкатила к горлу так резко, что едва успел забежать в первый попавшийся двор. После дал дворнику рубль, чтоб убрал, еще рубль, чтоб не смел о барине думать плохо. И пошел дальше, с каждым шагом улавливая в воздухе приближающийся запах реки.
Семнадцатый по Тучкову переулку длинный дом, где жила Анна Андреевна, стоял почти у самой набережной, выходящей на Малую Неву. И запах, этот невиданный нигде, кроме как на обвитом с двух сторон рукавами Невы Васильевском острове, едва уловимый запах реки, прочищал сознание. И когда из-за домов проступил резко очерченный в небе абрис громоздкого ангела Екатерининского собора, он понял, что с этой постыдной рвотой из него вышла и та боязнь телесности и плоти, что сидела в нем с неведомо каких времен. Студенческих? Гимназических? Еще прежде, из черниговского имения, где первые ощущения мира маленького Володеньки совпадали с намокшими кругами под мышками держащих его на руках кормилиц, от которых шел приторный щекочущий запах пота, да с ляжками крестьянских девок, за которые, учась ходить, пытался ухватиться ручонками «малястенький барчучок»?
После, сочиняя стихи, он нарочно старался вспоминать и освежеванную кошку и освежеванную душу, чтобы, вывалив все скопившееся в сборник, названный им «Плоть», снова испытать то застигнувшее его на Васильевском облегчение. Эх, если б знал он, с какой нестихотворной безжалостной натуралистичностью скоро настигнет его совсем иная плоть. Нагонит, перелопатит, почти сожрет, но отпустит, сжалится, спасет. Надолго ли?
Но в 1914-м до той иной его плотской смерти и бесплотного спасения оставалось еще четыре года… Неполные четыре года… В новогоднюю ночь 1918-го, подыхая под трупами и навозом и тщась перетерпеть смрад, он будет поминать иные запахи и иные ощущения. Быть может, в преддверии ада всегда вспоминается рай?
Его рай находился где-то там, в насквозь пропаленной пшеничным солнцем, пропахшей грушами и яблоками Нарбутовке его детства – воплощенной помеси гончаровской Обломовки с гоголевской Диканькой. Память сберегла из того рая триединство, в которое они с братом много позже – он словами, брат контурами – облекут собственные ощущения мира: линия, цвет, аромат.
Линия. Цвет. Аромат.
И слово. Конечно же, слово, силящееся отдать вечности это ускользающее триединство.
Линия – контур далекого горизонта, проступающий в окне их детской комнаты.
Цвет – сок вишни, брызнувшей из спешно откусанного вареника на одетую к обеду чистую рубаху.
Аромат – запах разложенных на зиму на полатях яблок.
И еще звук… Впервые ужаснувший его звук не крика, не рева, а писка.
Он, Володя, со старшим Егором, задумали тогда катать младшего из братьев Сережу на ведре в старом колодце, а он возьми, и свались… От отчаянного верчения журавля ставшее предательски легким ведерко выплыло наверх без брата, а с непроглядно далекого дна доносился не вопль, не крик, а еле слышный писк Сережи.
Реветь во весь голос пришлось им с Егором, сообразившим, что самим им брата со дна не достать. Хорошо, на их вой прибежали деревенские бабы, косившие на лугу недалеко от того заброшенного колодца, вытащили посиневшего от холода и страха «Сергуньку-то Иваныча», стащили с мальчика промокшую в ледяной воде одежонку, и отогревали, прижав к своим разморенным жарой телам. А после они с Егором по очереди тащили голенького брата наверх по пригорку до дома, задыхаясь от тяжести и счастья – Сережа жив! Все обошлось! Они не виноваты и их не заругают…
Все обошлось!..
Что еще осталось в нем от его постепенно растворяющегося в обыденности детского рая?
…Запах гроз того парящего и мокрого лета, когда они с братом воевали с родителями, отстаивая свое право ехать учиться в Петербург. Все больше увлекающегося живописью брата манили «мирискусники». Сам он, Володя, не рисовал, но вслед за Егором почитывал рассуждения Александра Бенуа об искусстве и вполне соглашался, что пора рваться из своей Глуховщины туда, где жизнь, – на север…
…Хруст казенной бумаги пришедшего из канцелярии петербургского университета уведомления: «Георгий и Владимир Нарбуты зачислены студентами факультета восточных языков». В том уведомлении брат впервые был назван не привычным домашним именем Егор, а данным при крещении именем Георгием…
…И та прозрачная, будто карандашом Егора прочерченная листва во дворике на Десятой линии между домом, где они с братом квартировали у художника Билибина, и расположившимися ближе к Среднему проспекту Бестужевскими женскими курсами. Выбившиеся из-под шляпок и шапочек локоны девочек-бестужевок просвечивали, как та листва, оттеняя их почти прозрачные – ничего похожего на неодолимую смуглость глуховских гимназисток – лица.
По утрам они с братом бежали от билибинского дома вниз, к трамваю на Среднем, и каждый раз, проходя сквозь стайки спешащих на курсы бестужевок, не сговариваясь, облизывали и без того обветренные на осеннем ветру губы. Сердце бежало вперед ног, а мальчишеское сознание отчего-то прозывало девочек не «бестужевками», а «бестыжевками», хотя ничего более не вяжущегося со словом «бесстыдство», чем те строгие девочки осени 1906 года, и быть не могло.
Одна из ежеутренне встречаемых девочек являлась ему и в самых возвышенных мечтаниях, и в самых низменных порывах. Через год, поселившись уже не у Билибина, а в частном пансионе дородной немки на углу Третьей линии и Большого проспекта, мальчик-студент встретил там Ее. Девочка-бестужевка снимала комнатку во втором этаже. Ему же дородная хозяйка отвела комнату на первом, рядом с собственной спальней. И, на перине мадам Пфуль сгорая от стыда и желания своих первых телесных опытов, он, закрывая глаза, представлял себе не толстую немку, а ту тонкую, словно просвеченная холодным осенним светом листва, девушку Ирину.
Осмелев, он пригласил ее на поэтический вечер в Тенишевское училище на Моховой, где с Ирины не сводил глаз какой-то элегантный и показавшийся Володе староватым господин совсем не поэтического вида. Еще через полгода девочка-соседка стала женой этого господина, оказавшегося князем Тенишевым…
…Рай его был и с запахом неведомых в холодной России бананов Абиссинии, куда Нарбута занесло в 1912 году – «во спасение». Департамент печати со скандалом арестовал и уничтожил его вторую книгу стихов «Аллилуйя», углядев кощунство в сочетании церковнославянского шрифта, скопированного с редкого неканонического Псалтыря, с «чрезмерно земным» содержанием. За это «чрезмерно земное» по 1001-й статье уложения законов он и был осужден на год заключения – «за порнографию». Сидеть в заключении не хотелось. Пришлось, бросив университет, бежать.