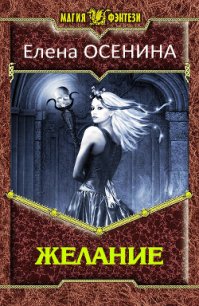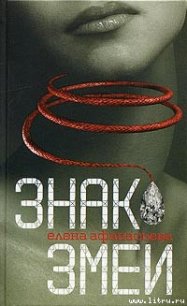Колодец в небо - Афанасьева Елена (бесплатные серии книг TXT) 📗
– Уж да уж… Приятеля его, Орлова Михаила Федоровича, едва по делу государственных преступников не осудили. Влиятельное родство спасло. А ваш Мамонов с Орловым много прежде декабрьского неповиновения императору Николаю Павловичу заговоры плесть начал. Уж его непременно вместе с Трубецким да Бестужевыми в рудники сослали бы или с Каховским да Рылеевым в петлю…
– Так и я тогда рассудил, что судьба все видит и все за нас решает. Что ее, судьбу, на кривой козе не объедешь! Что в собственном доме на Покровском бульваре и после на даче на Воробьевых горах Матвею Александровичу куда как лучше, нежели в Нерчинске. Решил и успокоился. Из памяти своей как вычеркнул. А память иначе решила. И в прошлом годе снова о том напомнила. Поручено мне было по личному императорскому распоряжению дело об опеке над графом поверить. Начал поверять, и ужаснулся. Тому, что собственными руками с человеком сотворить способствовал! Опекуншей в ту пору случилась родная сестра Матвея Александровича Марья Александровна. Тогда среди отчетов и бумаг было судебное решение об опеке… Да, ежели желаете, списки с тех бумаг у меня при себе, все документы опекунской проверки, когда на Воробьевы собираюсь, с собой вожу. Изволите полюбопытствовать?
Из потайного кармана тяжелого зимнего пальто постаревший и осунувшийся бывший поручик Владимир Иванович Толстой достает несколько бумаг и протягивает собеседнику, некогда сопернику, ухаживавшему за Лизанькой Пекарской, графу Андрею Илларионовичу Стромину. Стромин морщится и, раскрыв одну из бумаг, в свете газовых фонарей, мелькающих на Тверской улице, по которой мимо Страстного монастыря побивается по свежевыпавшему снегу дешевая пролетка деревенского ваньки, начинает разбирать вслух…
– «1841 года апреля 19 дня по Указу Его Императорского Величества Меленковский уездный суд слушал выписку, учиненную из дела, начинашагося по прошению опеку над имением генерал-майора графа Матвея Александровича Дмитрева Мамонова, девицы графини Марьи Александровой Дмитревой Мамоновой, коллежской асессорши княгини Агнии Владимировой Волконской, опекунши над малолетними детьми своими, Флота капитан-лейтенантши Варвары Алексеевой Чоглоковой, артиллерии подпоручицы Анны Афанасьевой Алексеевой и подпоручика Осипа Петрова Талызина о утверждении представленной ими полюбовной сказки о размежевании к одним местам земли и прочих угодий, находящихся в чрезполосном их владении, состоящих здешняго уезда в сельце Завелеве…» Э-э, ничего в таком свете не разобрать, в глазах рябит. Вы уж, голубчик, Владимир Иванович, лучше своими словами.
– А своими словами и рассказывать особо нечего. Своими глазами видеть надобно! Теперь до Воробьевых гор доедем, извольте со мной на Мамонову дачу идти. Убедитесь сами.
– Да верю я вам, верю. И глазам вашим верю, и бумагам! Расскажите лучше, что же с графом стало?
– Несколько лет после учреждения опеки над графом опекуны его нещадно менялись. И я странность какую заметил, словно умысел злой чей-то или расчет. Стоило заботливому опекуну быть назначенным, так вскоре отстраняли его от должности. Словно надобность была жизнь Матвея Александровича невыносимой сделать. Хуже чтоб и не придумать. И нашелся опекун такой, по невыносимой жизни мастер – родная сестра. Хитрая старуха…
– В казенной бумаге «девицей» величают, а вы, Владимир Иванович, говорите «старуха»!
– Старая дева в приближении полувека, конечно, старуха! Всю опеку под себя прибрала! Всех перехитрила и родного брата обобрала до нитки! Ему смирительная рубаха, а ей стотысячные векселя!
– Стотысячные?! – и отнюдь не бедный граф Стромин ахнул.
– И отцовский билет Государственного Банка на шестьдесят восемь тысяч рублей обналичила, и драгоценности все из Дубровиц вывезла, все до последнего колечка – мозаичный стол, серебряные бокалы, канделябры, блюда, чаши, картины, зеркала – все к себе в Петербург перевезла. Одного серебра более пяти пудов. А уж о реликвиях, коими государыня Екатерина их папеньку жаловала, и говорить нечего. Их забрать и из собственного Матвея Александровича дома не постеснялась – и бриллиантовую трость, и орден Александра Невского, и камею неописуемой древности и красоты…
– Камея-то Марьесанне понадобилась зачем?
– Древность. Антик. К тому же императрицей даренная, неучтеная из коллекции Орлеанского, что в Эрмитаже представлена. При продаже денег много может принесть. А уж с опекунами и лекарями как нажилась на братовом несчастии! До тридцать третьего года Матвея Александровича лечили лучшие медики, однако вскоре Марья Александровна оставила при графе только своего домашнего лекаря Генриха Левенгейма. Левенгейм этот, мало что немец, которых Мамонов сроду не терпел, так еще и не посещал больного месяцами, получая между тем из средств опекаемого сначала восемь тысяч, а впоследствии двенадцать тысяч рублей серебром в год, отдельно из графских же средств оплачивая себе прислугу и экипаж. Кроме того, по контракту за десять лет пребывания при графе ему полагалось еще пятьдесят тысяч рублей…
– Уж старая ли она дева, эта ваша Марья Александровна?! – не удержался от колкости Стромин. – Просто так пятьюдесятью тыщами лекаря сумасшедшего брата не одаривают.
– На предмет дел ее амурных не ведаю, а деньги все не из ее кармана – опекунам и лекарям назначалось по восьми процентов от графского дохода, а доход даже у объявленного невменяемым графа Дмитриева-Мамонова знаете какой! Восьми процентов на безбедную старость более чем за глаза…
– Что дальше-то с Марьсанной приключилось? Отчего это она власть свою над залеченным братом потеряла?
– То и приключилось, что сгубила ее жадность. Слуги несчастного графа издевательств сестры над Матвеем Александровичем не вынесли. Разыскали одного из прошлых управляющих Варфоломеева, который к графу по-доброму относился. Тот и помог все честь по чести изложить да куда надо направить. Все происки графини были изложены в двух анонимных записках, поступивших к графу Бенкендорфу…
– О покойниках, говорят, «или хорошо, или никак». Но в благородную миссию Александра Христофоровича, царство ему небесное, уж больно не верится!
– Особо после того, как по личному повелению Бенкендорфа отстранили от опекунства князя Цинцианова, который Матвея Александровича умалишенным не считал и относился к графу не как к сумасшедшему, а как к жертве. Тогда сестрица все к рукам и прибрала. Она уж в отличие от князя Цинцианова брата за умалишенного со всей радостью признавала… И все же… После тех записок, отправленных Варфоломеевым в тайную канцелярию, в которых и разбирался Бенкендорф, Высочайшим повелением было проведено расследование и Комитет министров лишил графиню опекунства. Но государь Николай Павлович посчитал решение Комитета слишком мягким, и отдал распоряжение об учреждении опеки над самой графиней. Когда опеку сняли, Марья Александровна тотчас бежала за границу, умудрившись какой-то хитростью многие батюшкины реликвии прихватить. Разве что орден Александровский не вывезла, да куда камею подевала, неведомо, то ли здесь где спрятала, то ли все ж так тайком увезла. Пропал античной камеи след.
– А сам граф? Так все эти годы взаперти аки в тюрьме на Воробьевых горах и просидел?
– Вы с той стороны Москвы-реки, с Лужников эти горы видывали? Э-э, как там тебя, извозчик, как звать не ведаю… Матвеем?! О, господи, провидение, не иначе, знак, что ехать нам с вами, непременно ехать к Матвею Александровичу теперь надобно. Так ты, Матвей, не поленись, поезжай до Новодевичьего монастыря и сразу к берегу, где река подковой закручивается. Там на Воробьевы горы глянем, они от Новодевичьего сказочными чертогами глядятся, а уж Мамонова дача – таинственным дворцом. И в голову при такой красе никому не придет, что никакой это не дворец, а тюрьма. Тюрьма для одного арестанта. После в ту тюрьму на Воробьевы горы нас и свезешь. Я, Андрей Илларионович, вчера, знаете ли, читал девятый том последнего издания Пушкина, и впервые подумал, что не о Батюшкове это писано, ох, не о Батюшкове…