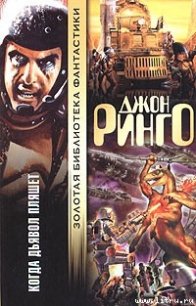Заговор францисканцев - Сэк Джон (чтение книг TXT) 📗
Каждый урок Конрад заканчивал чтением нескольких строк из молитвенника или стихов из псалтыря и напоминанием, что воспитание души неизменно важнее мирской премудрости.
– Женщина невежественная, но богобоязненная, – твердил он, – лучше, чем умудренная, но преступающая законы Всевышнего.
Амату забавляло упрямое повторение подобных истин, зато твердо заведенный порядок уроков внушал ей уверенность в своих силах.
За уроками ноябрь для нее пролетел незаметно. После полудня, когда Конрад углублялся в свои легенды, находились другие, кто помогал девушке закрепить усвоенное. В доме что ни день бывали странствующие проповедники и нищенствующие монахи. Те из них, кто не относился к опыту донны Джакомы слишком строго, находили его забавным. Подумайте, учить грамоте обычную служанку! Еще немного, и вдова примется учить своего бурого мышелова читать благодарственную молитву перед плошкой молока!
Амата подозревала, что кое-кто из молодых клириков находил в занятиях с ней приятность и другого рода, но она ничем их не поощряла. Кажется, и Конрад предполагал что-то в этом роде, если судить по тому, с каким лицом он проходил через зал, где она читала вслух кому-нибудь из странников.
Конрад напоминал ей о недавней клятве со всей тонкостью, на какую был способен. Признаться, тонкости ему недоставало. В таких случаях урок заканчивался отрывками не из книги псалмов, а из Экклезиаста: «Не смотри на телесную красу и не бывай в обществе женщин, ибо как от одежды исходит моль, так от женщины – бесчестье мужчине... Я нахожу женщину горше смерти: она – приманка охотника, и сердце ее – силки, а руки ее – узы. Тот, кто чтит Бога, бежит ее, но грешник будет ею уловлен».
Однажды Конрад прервал урок ради того, чтобы открыто указать девушке, что некий фра Федерико задержался в доме только ради нее. В тот день он прочел ей строки поэта с непроизносимым именем: «Хочешь ли знать, что есть женщина? Сверкающая грязь, зловонная роза, сладкий яд, вечно стремится к тому, что запретно».
Пожалуй, Амата могла бы счесть, что отшельник отрастил непомерно длинный нос, – если бы в самом деле интересовалась Федерико. А так ей с трудом удалось сдержать смех при виде его праведного негодования. Чем больше горячился Конрад, тем легче ей было различить за его суровыми речами заботу о ней. Пусть ему легче сравнить ее со «сверкающей грязью» или обозвать братьев, подобных Федерико, un cane in chiesa – псами в церкви, чем сказать «ты мне дорога, и я о тебе беспокоюсь», – но ей в его нотациях всегда слышалась любовь.
– Я придумал, как защитить тебя от таких недостойных братьев, – сказал он однажды и послал слугу за донной Джакомой.
Когда матрона пришла к ним, Конрад предложил, чтобы Амата каждый день повторяла выученный урок юному Пио.
– Таким образом она не только обучит Пио, – сказал он, – но и закрепит в памяти новые знания.
Донна Джакома согласилась, и Пио пришел в восторг – у него появился новый предлог побыть рядом с Аматой. Отвергнутый фра Федерико покинул дом, Конрад казался довольным, и Амата тоже не возражала. Уроки с мальчиком больше напоминали игру, потому что ее книги казались ему страшно глупыми. Амата, скажем, начнет читать:
«Если приходится рыгнуть, делай это возможно тише и всегда отворачивай лицо. Если отхаркиваешься или кашляешь, не глотай того, что уже оказалось во рту, а сплевывай на землю, в платок или салфетку».
Пио тут же картинно рыгнет, старательно отвернув лицо, или наберет полный рот слюны и, поджав губы, просит у наставницы одолжить носовой платок. Уроки письма на восковых табличках скоро превращались в обычные «крестики-нолики» или в игру «шесть мавров» с расчерченными на дощечке квадратиками и кусочками угля из камина вместо фишек.
О своих достижениях Конрад почти не говорил. Амата знала только, что он изучает легенду Фомы Челанского. Кажется, его приводило в отчаяние описание юности святого Франциска. Отшельник рассказал, что в «Предании» Бонавентуры лишь иносказательно обозначено, что в молодости основателя ордена «влекло все земное».
– Как велика сила Божья, – Конрад. – Он мог сделать святого из буйного юнца! Бонавентура принижает милость и могущество Господа, скрывая огромность преображения Франциска.
Амата достаточно много запомнила и подслушала, чтобы понимать: в рукописи Фомы Конрад ищет упоминания о слепоте или о слепцах. Очень долго он явно не находил ничего подобного, но в середине декабря все переменилось.
Конрад почти вбежал в большой зал, где Амата сидела за вышиванием и болтала с донной Джакомой.
– In illo tempore, – бормотал он. – В то время! Но что это значит? In illo tempore...
Он смотрел прямо на них, но, кажется, не видел. Он прошагал через зал, сцепив руки за спиной, наткнулся на стену, развернулся и вылетел вон, так и не заметив их. Женщины переглянулись и захихикали.
24
К первой неделе декабря зима окончательно обосновалась в Ассизи. Ветер, свиставший сквозь закрытые окна комнаты, где сидел за книгами Конрад, превратился в беспрестанный вой, словно все духи земли и неба сливали голоса в жалобном плаче. Монте Субазио и окрестные холмы спали зыбким сном.
Сквозь прозрачное полотно, затягивавшее окна, даже в полдень пробивалось мало света. Конраду пришлось довольствоваться свечой и огнем камина, так что чтение продвигалось медленно. Холодные вихри врывались в дымоход, и отшельник задыхался от горьковато-сладкого запаха можжевельника – крестьянка каждое утро подвозила к дому вязанки хвороста, навьюченные на осла.
Он мог бы в любое время перебраться со своими рукописями в большой зал, где занимались Амата с Пио – большие окна и большой камин неплохо освещали его, – но там целыми днями толклись чужаки, а Конрад стал в последнее время очень подозрителен. Тот же фра Федерико, прежде чем убраться из дома, забрел однажды в комнату Конрада. Пришлось отвлекать брата, пересказывая ему отрывки из нового труда Фомы Аквинского, недавно прочитанного в Сакро Конвенто, а манускрипт Фомы Челанского тем временем прятать за спиной. Любой странствующий грамотей был бы, естественно, заинтригован, обнаружив на столе мирянки более четырех книг, будь она даже самого благородного происхождения. Любых книг – но запретные рукописи были бы особенно интересны. Так что Конрад сидел взаперти, терпел дым и тусклый свет и тер усталые глаза в одиночестве.
Историю рукописи Фомы Челанского он знал от Лео. После смерти святого Франческо братство решило, что секретарь святого должен составить его жизнеописание. Никто не был ближе него к Франческо, да и простой безыскусный стиль Лео соответствовал суровости жизни его наставника. Однако Элиас с кардиналом Уголино предпочли избрать летописцем фра Фому из Челано, хотя этот брат никогда не встречался с Франческо и большую часть жизни провел в Германии. Правда, Фома написал величественный гимн смерти и справедливости, «День Гнева», доказывая свое красноречие. А поскольку он не был лично знаком со святым, то при написании его жития вынужден был полагаться на сведения, предоставленные ему братьями – в частности, главой братства, братом Элиасом. Не удивительно, что Элиас в писании Фомы играл столь важную роль, что после его изгнания и отлучения новый генерал ордена, фра Кресчентиус, просил Фому Челанского написать новую легенду, исключив из нее все упоминания об Элиасе. Он же попросил всех братьев, знавших Франциска, написать в помощь брату из Челано свои воспоминания – так появилась на свет «Легенда трех спутников».
Конрад начал поиски с первой строки четвертой главы. Он боялся пропустить ключ к разгадке – упоминание о «начале слепоты» – и потому читал очень внимательно. Прочел об исцелении Франциском слепой женщины и не усмотрел в этом эпизоде никакой связи с фразой из письма. Поиски все продолжались, когда выпал снег. Руки крестьянки, подвозившей хворост, покраснели от мороза, она повязывала толстый шерстяной платок поверх капюшона, а Конрад все пробивался сквозь главы жизни Франциска. Описание появления стигматов и видения огнекрылого серафима явно было записано со слов Элиаса. И вот, в следующей за видением главе – вдруг первыми словами – «in Ilо tempore»! В то время!