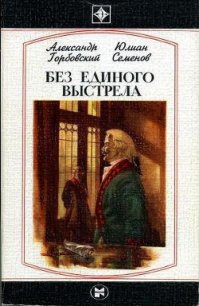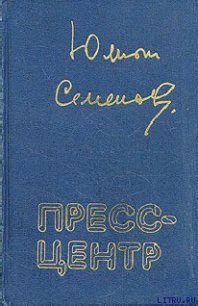Отчаяние - Семенов Юлиан Семенович (читать книги онлайн бесплатно полностью .txt) 📗
Исаев не отрывал глаз от лица Валленберга, а вспоминал писателя Никандрова, с которым сидел в двадцать первом в тесной камере таллиннской тюрьмы; он вспоминал горестные слова Никандрова и свои – беспрекословные – возражения ему; как же я был тогда жёсток в своей позиции, подумал он, как непререкаем... Впрочем, я готов подписаться под каждым моим словом, но только тем, двадцать первым годом, трагичным годом, когда никто не мог представить себе, что произойдет в стране девять лет спустя...
Он помнил, как Никандров, расхаживая по камере, яростно возражал ему (о подслушках тогда никто не думал; как же летит время, а?! Человечество на пути к прогрессу изобретает радио – на радость всем, и жучок – на смерть тем, кто норовит остаться самим собой. Каждый шаг прогресса одномоментно рождает шажок беса. Почему так? Почему?!).
Никандров всегда грохотал, отстаивая свою правоту; голос его был как иерихонская труба:
– Каждый истинный литератор находился на своей Голгофе, Максим! Трагедия русского писателя в том, что он может быть писателем только в России... Внутренне... Но он не может им быть внешне, потому что именно в России ему мучительно трудно пробиться к людям... Верно, поэтому в нас и родился чисто «русский писательский комплекс»?! Русский литератор не может писать, не думая о тех, кто его окружает, но вместе с тем не может к ним пробиться, понимаете?! Это трагедия, на которой распята наша литература! Или она органично политичная, как у Писарева, и тогда она даже счастлива, если ее распинают... А коль скоро в ней возникает просвет, как у Толстого, Достоевского или Гоголя, тогда рукописи летят в огонь, тогда человек бежит из дома невесть куда, он эпилептик, потому что эта гениальная бездна не может удовлетвориться данной политической ситуацией, вот в чем дело! Трагедия русского писателя в том, что в нем накапливается Мысль, Вера, она рвет ему сердце, сводит с ума, но уехать из России для него такая же трагедия, как и остаться там... Ведь когда властвует сила, места для морали не остается...
А что я ему ответил тогда, подумал Исаев, он ведь согласился со мною... Ах да, я вроде бы сказал, что русский писатель должен постоянно напоминать миллионам, что они люди... В него будут лететь камни, гнилые помидоры, дротики даже... Такой литератор погибнет – осмеянным и опозоренным... Но такие должны быть!
Их не может не быть... И покуда оплеванный и униженный писатель продолжает говорить, что Добро есть Добро, а черное не есть белое, люди могут остаться людьми, иначе их превратят в тупое стадо...
А он ответил, что потерять константу духа и морали, которым служит истинная русская литература, можно только однажды... «А вы, – сказал он мне, чекисту, который не скрывал от него правды, потому что верил ему, – хотите втянуть литературу в драку! Впрочем, вас можно понять... Вам нужно выполнить чудовищно трудную задачу, вы ищете помощь где угодно... Вы готовы даже от литературы требовать чисто агитационной работы, да будет ли прок?»
Ну и как? Получился прок, спросил себя Исаев. Или где-то, когда-то, в чем-то все перекосило? Когда? Где? В чем? Кто?
– Не спится? – тихо спросил Валленберг.
– Не спится...
– Теперь уже не уснете.
– Это почему? – удивился Исаев. – Поворачивайтесь на правый бок и считайте до тысячи – уснете... Завтра у нас предстоит разбор Цезаря, очень важный реферат.
И он снова вспомнил бернскую квартиру, отца, Воровского, Мартова, Аксельрода, Зиновьева, Дана и сразу понял, отчего увидел лица этих людей: «реферат» был их самым любимым словом – турнир идей; пусть победит умнейший – не сильнейший, ум мощнее силы, ибо не преходящ, а постоянен...
...Сашенька, сказал он себе, сынок, любимые, простите меня... По моей вине вы оказались в жерновах... Я не верю ни единому слову этого Аркадия... Я понимаю, как они испугались после того, как я вмазал Деканозову; страх не прощают, за унижение страхом мстят... И не просто, а кровью...