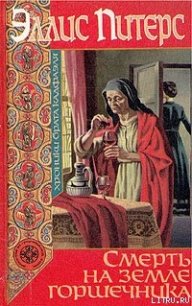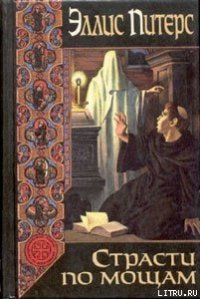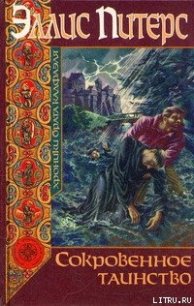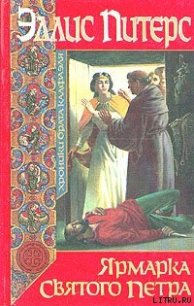Датское лето - Питерс Эллис (книги полностью .TXT) 📗
Глава одиннадцатая
Два человека из отряда Кюхелина, делая ранним утром обход южной окраины лагеря, обнаружили, что у самых дальних ворот нет часового, и доложили об этом своему командиру. Если бы не Кюхелин, этим делом занялись бы позже. Но для него присутствие в лагере Кадваладра — пусть даже он был в опале — было страшным оскорблением не только из-за покойного Анаравда, но также и из-за живого Овейна. И поведение Кадваладра в лагере только усиливало подозрения и омерзение Кюхелина. То, что Кадваладр поселился в самом дальнем уголке лагеря, другие могли истолковать как нежелание мозолить глаза раздраженному брату.
Но Кюхелин лучше знал этого человека, надменного и абсолютно равнодушного к чувствам других. Такому нельзя доверять, ведь все его поступки безрассудны и непредсказуемы. Поэтому Кюхелин молча взял на себя обязанность следить за Кадваладром и его сторонниками. Там, где они собирались, нужна была бдительность.
Узнав об отсутствии часового, Кюхелин поспешил к воротам. Беднягу они нашли в кустах, неподалеку от изгороди. Он был цел и невредим, но походил на сверток шерстяной ткани. Ему удалось немного ослабить путы на руках и частично вытолкнуть кляп изо рта. Часового нашли, услышав приглушенное бормотание в кустах. Когда его развязали, он распухшими губами рассказал, что произошло ночью.
— Датчане — не меньше пяти! Они пришли с залива. Мальчик, похожий на валлийца, указывал им путь…
— Датчане! — повторил Кюхелин, несколько удивленный.
Он ожидал какой-то дьявольской проделки от Кадваладра, так неужели вместо этого попался сам Кадваладр? Это слегка позабавило Кюхелина, хотя он еще не совсем поверил в случившееся. Возможно, тут кроется совсем иное: датчанин и валлиец могли пожалеть о своем разрыве и снова тайно объединиться против Овейна.
Кюхелин ворвался в палатку Кадваладра без всяких церемоний. В лицо ему дунул сквозняк, трепавший распоротые шкуры палатки. На кровати он обнаружил спеленутую фигуру, которая дергалась и извивалась, произнося нечленораздельные звуки. Увидев вторую связанную жертву, он был окончательно сбит с толку. Если датчане тайно пробрались в лагерь, зачем им было связывать Кадваладра, вставлять ему в рот кляп и оставлять на кровати? Ведь его все равно найдут и освободят, и это так же неизбежно, как восход солнца. Если же они пришли, чтобы снова вступить с ним в заговор или чтобы взять его в плен, поскольку он у них в долгу, все равно ничего нельзя было понять. Так думал озадаченный Кюхелин, с угрюмым терпением развязывая своей единственной рукой веревки, распутывая узлы и разматывая пледы. Когда освободилась рука пленника, он сбросил тряпки с растрепанной темноволосой головы, и показалось лицо, хорошо знакомое Кюхелину.
Это не было надменное лицо Кадваладра — нет, Кюхелин увидел молодое, серьезное и сосредоточенное лицо своего двойника, словно заглянул в зеркало. Перед ним был Гвион, последний заложник из Середиджиона.
Они вместе явились в штаб-квартиру Овейна, причем один не столько конвоировал другого, сколько делал вид, что идет позади, а второй шествовал впереди, всем своим видом показывая, что его не ведут, а он идет по доброй воле туда, куда хочет. Между ними возникло чувство, похожее на вражду, чего раньше никогда не было, и такова была сила и болезненность этого противостояния, что оно не могло продлиться долго, Овейн понял это по их напряженным позам и непроницаемому выражению лиц, как только они вошли и встали перед ним, ожидая его решения.
Два темноволосых, суровых, страстных молодых человека, один из которых был чуть выше и тоньше, а второй чуть плотнее и светлее, — сейчас, когда они стояли плечом к плечу, дрожа от возбуждения, их в самом деле можно было принять за близнецов. Единственным отличием, вопиющим и бросающимся в глаза, была обрубленная рука одного, потерянная из-за подлого предательства человека, верным вассалом которого был второй. Но не это стояло сейчас между ними, застывшими от гнева и вражды, столь непривычных для обоих и причинявших такую боль.
Овейн перевел взгляд с одного угрюмого лица на другое и спокойно обратился к обоим:
— Что это значит?
— Это значит, — ответил Кюхелин, с трудом разжав зубы, — что слово этого человека стоит не больше, чем слово его господина. Я нашел его в палатке Кадваладра, связанным, с кляпом во рту. Он должен сам рассказать вам, как это произошло и почему, так как я больше ничего не знаю. Но Кадваладр исчез, а этот человек остался. Часовой говорит, что датчане пришли ночью с залива и самого его связали, оставив в кустах. Если во всем этом есть какой-то смысл, пусть он расскажет. Но я знаю, милорд, а вы тем более, что он дал клятву не пытаться сбежать из Эбера, а теперь нарушил ее.
— Однако не очень-то он от этого выиграл, — сказал Овейн, стараясь не улыбнуться, глядя на Гвиона. У того на лице отпечатались складки пледа, черные волосы были растрепаны и развились, а губы распухли от кляпа. Овейн мягко продолжил, обращаясь к молодому человеку, который угрюмо и вызывающе молчал: — Что ты скажешь, Гвион? Ты нарушил клятву и покрыл себя позором?
Распухшие губы разжались, и Гвион еле слышно, но твердо произнес:
— Да.
Кюхелина передернуло, и он отвел глаза. Гвион же не отводил взгляда от лица Овейна. Он тяжело вздохнул, так как признался в самом страшном.
— А почему ты это сделал, Гвион? Я тебя, кажется, немного знаю. Разгадай мне эту загадку. Я ведь оставил тебя в Эбере, дав поручение, связанное со смертью Блери ап Риса. И ты дал мне слово. Это мы все знаем. А теперь расскажи, как случилось, что ты изменил себе и своему слову.
— Давайте оставим это! — воскликнул Гвион, весь дрожа. — Да, я это сделал! И за это отвечу.
— Тем не менее расскажи! — сказал Овейн с удивительным спокойствием. — Потому что я хочу знать!
— Вы думаете, что я буду искать себе оправдание, — начал Гвион. Его голос окреп, он успокоился, настолько безразлична ему была собственная судьба. Он начал на ощупь, словно только теперь впервые пытался разобраться в сложных мотивах своего поведения и боялся того, что мог обнаружить. — Нет, я сделал то, что сделал, и не оправдываюсь — поступок мой постыден. Но выбора не было, так как в любом случае меня ожидал позор и из двух зол надо было выбирать наименьшее. Хотя нет, не мне судить! Я расскажу, что именно сделал. Вы поручили мне отправить жене Блери его тело для погребения и сообщить ей, как он умер. Я подумал, что мог бы лично отправиться к ней с его телом, чтобы оказать ей уважение, а затем вернуться в плен — если только можно так назвать ту свободу, которой я пользовался у вас, милорд. Итак, я поехал к жене Блери в Середиджион, и там мы и похоронили его. И в Середиджионе мы обсуждали поступок Кадваладра, вашего брата, который привел датский флот, чтобы добиться своего. И я пришел к мысли, что в интересах ваших, Кадваладра, всего Гуинедда и Уэльса вам надо объединиться и вместе отослать датчан в Дублин с пустыми руками. Правда, я до этого не сам додумался, — ради точности добавил он. — Так считают мудрые старики, которые пережили войны и образумились. Я был и всегда буду человеком Кадваладра, иначе я не могу. Но когда мне доказали, что ради него самого лучше будет если вы помиритесь, я понял, что они правы. Я связался с преданными Кадваладру командирами, и мы собрали для него войско. Но прежде всего мы хотели примирения. И я нарушил свою клятву, — пылко заявил Гвион. — Независимо от того, увенчались бы наши планы успехом или провалились, я открыто заявляю, что сражался бы за него. С радостью — против датчан. С какой стати они заключили подобную сделку? Против вас, милорд Овейн, я бы сражался с очень тяжелым сердцем, если бы до того дошло. Но я сделал бы это. Потому что он мой господин, и я служу ему одному. Так что я не вернулся в Эбер. Я привел к Кадваладру сотню бойцов, придерживающихся тех же взглядов, что и я, и предоставил ему самому решать, каким образом он бы их использовал.
— И ты нашел его в моем лагере, — улыбнулся Овейн. — И твои планы наполовину осуществились, так как мы с ним помирились.