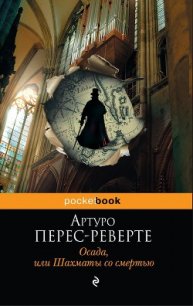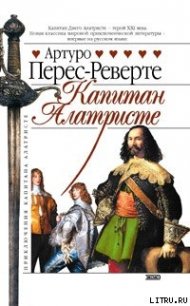Фламандская доска - Перес-Реверте Артуро (книги без регистрации бесплатно полностью .TXT) 📗
— Черная королева, — повторила Хулия, ошеломленная, чувствуя — почти слыша, — как жужжит и постукивает ее мозг, работающий на всю катушку.
— Да, — пожал плечами Муньос. — Рыцаря убила черная дама… Что бы это ни означало.
Хулия поднесла к губам сигарету, уже успевшую превратиться в стерженек пепла, и, прежде чем швырнуть ее на пол, в последний раз глубоко затянулась, обжигая себе пальцы.
— Это означает, — прошептала она, потрясенная открытием, — что Фердинанд Альтенхоффен был невиновен… — Коротко и сухо рассмеявшись, она, все еще не веря, взглянула на лежавшую на столе диаграмму позиций. Потом протянула руку и коснулась указательным пальцем клетки с2 — рва восточных ворот остенбургской крепости, где был убит Роже Аррасский. — Это означает, — вздрогнув, повторила она, — что это Беатриса Бургундская приказала убить рыцаря.
— Беатриса Бургундская?
Хулия кивнула. Все было настолько ясно, настолько очевидно, что ей хотелось надавать самой себе пощечин за то, что не догадалась раньше. Все прямо-таки открытым текстом — и в шахматной партии, и в самой картине. Все, до самых мельчайших подробностей, зафиксированное тщательно и скрупулезно: уж это ван Гюйс умел.
— Иначе и быть не могло, — проговорила она. — Конечно же, черная дама: Беатриса, герцогиня Остенбургская. — Она чуть запнулась, подбирая подходящее слово. — Проклятая лиса.
И она увидела — явственно и отчетливо — художника среди беспорядка его мастерской, пропахшей красками и скипидаром, среди теней и света сальных свечей, придвинутых чуть ли не вплотную к картине. Он смешивал медную зелень со смолой, чтобы ее яркость могла бросить вызов времени. Потом он накладывал ее, слой за слоем, выписывая складки покрывающей стол ткани, пока зеленая краска не закрыла окончательно надпись Quis necavit equitem, которую он сам сделал аурипигментом всего лишь несколько недель назад. Он приложил много усилий, выводя прекрасные готические буквы, и теперь ему было жаль прятать их от людского глаза — по всей вероятности, навсегда; однако герцог Фердинанд был прав: «Слишком уж все явно, мастер ван Гюйс».
Наверное, именно так все и было, и, наверное, старый мастер ворчал сквозь зубы, медленно накладывая мазок за мазком на доску, свежие краски которой ярко сияли в пламени свечей. Может быть, в какой-то момент он, отложив кисть, потер усталые глаза и грустно покачал головой. С некоторых пор зрение начало подводить: сказывались годы напряженной работы. Они, эти годы, отравляли ему даже то единственное удовольствие, которое заставляло его забывать о живописи в часы зимнего досуга, когда дни становились слишком короткими, а свет — слишком тусклым, чтобы браться за кисти: игру в шахматы. Пристрастие, сближавшее его с горько оплакиваемым мессиром Роже, который при жизни был его покровителем и другом и который, несмотря на свою знатность и высокое положение, не считал зазорным запачкать краской свой кафтан, когда приходил к нему в мастерскую, чтобы сыграть партию-другую среди бутылей с маслом, горшков с глиной, кистей и недописанных картин. Который умел, как никто другой, сочетать шахматные сражения с долгими беседами об искусстве, любви и войне. Или об этой своей странной идее, которая теперь звучала как зловещее предсказание его собственной участи, о том, что шахматы — игра для тех, кто любит дерзко прогуливаться по отверстой пасти дьявола.
Картина была закончена. Раньше, когда он был моложе, Питер ван Гюйс имел обыкновение сопровождать последний мазок короткой молитвой благодарности Господу за благополучное окончание новой работы; но годы наложили печать молчания на его уста, высушили его глаза и посыпали пеплом волосы. Так что он ограничился легким утвердительным кивком, сунул кисть в горшок с растворителем и вытер пальцы о потертый кожаный фартук. Потом взял канделябр, поднял его повыше и отступил на шаг от картины. Пусть Господь простит его, но невозможно не испытывать чувства гордости. «Игра в шахматы» полностью — и даже более — соответствовала наказу его высочества герцога. Потому что в ней было все: жизнь, красота, любовь, смерть, предательство. Эта доска была произведением искусства, которому предстояло пережить и живописца, своего создателя, и тех, кто был на ней изображен. И старый фламандский мастер ощутил горячее дыхание бессмертия.
Увидела она и Беатрису Бургундскую, герцогиню Остенбургскую, читающую, сидя у окна, «Поэму о розе и рыцаре», и солнечный луч, наискосок падающий на ее плечо и освещающий расписанные суриком страницы. Увидела, как слегка дрожит, словно листок под легким ветерком, ее белая, оттенка слоновой кости, рука, на которой мерцает в луче света золотое кольцо. Быть может, она любила и была несчастна, и ее гордость не смогла вынести пренебрежения этого человека, посмевшего отказать ей в том, в чем сам сэр Ланселот Озерный не осмелился отказать королеве Джиневре… А может, все было иначе, и наемник, вооруженный арбалетом, мстил за горечь и отчаяние, полыхнувшие вслед за агонией старой страсти, вслед за последним поцелуем и жестоким прощанием… Над раскинувшимся за окном пейзажем в голубом небе Фландрии плыли облака, а дама читала, поглощенная лежащей на коленях книгой. Нет. Это невозможно, ибо Фердинанд Альтенхоффен никогда бы не стал воздавать почестей измене, а Питер ван Гюйс — тратить на это свои искусство и талант… Предпочтительнее было думать, что опущенные глаза не смотрят прямо, потому что таят слезу. Что черный бархат — это траур по собственному сердцу, пробитому той же самой стрелой, что просвистела у рва. По сердцу, склонившемуся перед государственными интересами, перед шифрованным посланием кузена — Карла, герцога Бургундского: в несколько раз сложенным пергаментом с сургучной печатью, который она, немея от тоски, смяла холодными руками, прежде чем сжечь его в пламени свечи. Конфиденциальное послание, переданное тайными агентами. Интриги и паутина, плетущиеся вокруг герцогства и его будущего, составляющего часть будущего Европы. Французская партия, бургундская партия. Глухая война дипломатий, не менее безжалостная, чем самое жестокое сражение на поле брани: без героев, но с палачами, одетыми в бархат и кружева, оружием которым служили кинжал, яд и арбалет… Голос крови, долг, к исполнению которого призывала семья, не требовали ничего такого, что впоследствии не могло бы быть облегчено надлежащим покаянием. А требовали они всего лишь ее присутствия, в определенный день и час, у окна башни восточных ворот, где каждый вечер, на закате, камеристка расчесывала ей волосы. У окна, под которым Роже Аррасский прогуливался каждый день, в один и тот же час, в полном одиночестве, размышляя о своей запретной любви и о своей тоске.
Да. Быть может, черная дама так низко склоняла взор, устремленный на книгу на коленях, не потому, что была погружена в чтение, а потому что плакала. А может, не смела прямо смотреть в глаза художнику, потому что ими, в общем-то, на нее взирали Вечность и История.
Она увидела Фердинанда Альтенхоффена, несчастного герцога, зажатого в кольцо ветрами Востока и Запада в чересчур уж быстро, на его взгляд, меняющейся Европе. Она увидела его покорившимся и бессильным, пленником самого себя и своего века, увидела, как он с размаху хлещет себя по обтянутому шелком колену замшевыми перчатками, дрожа от ярости и горя, от невозможности покарать убийцу единственного друга, какой был у него в жизни. Увидела, как в большой зале, увешанной коврами и знаменами, прислонившись к колонне, он вспоминает юные годы, общие мечты, делимые на двоих, свое восхищение другом — старшим, но еще почти мальчиком, — отправившимся на войну и вернувшимся покрытым шрамами и славой. Еще звучали в этих стенах эхо его смеха, его спокойного голоса, всегда раздававшегося в нужный момент, его изысканные комплименты, адресованные дамам, его неизменно дельные советы, еще жило его тепло, его дружба… Но его самого уже не было. Он ушел — вдаль, в темноту.
«А хуже всего, мастер ван Гюйс, хуже всего, старый друг, старый художник, любивший его почти так же, как и я, хуже всего то, что месть не может свершиться; то, что она — она, — как и я, как и он сам, не более чем игрушка в руках других, более могущественных: тех, кто решает, потому что у них есть деньги и сила, что века должны стереть Остенбург с карт, которые рисуют картографы… У меня нет головы, которую я мог бы отсечь перед могилой моего друга; да даже и имей я эту голову, я не смог бы. Только она все знала — и молчала. Она убила его своим молчанием, позволив ему прийти, как каждый вечер — у меня тоже есть хорошие шпионы, — ко рву восточных ворот, куда влекло его безмолвное пение той сирены, что толкает мужчин встретиться лицом к лицу со своей судьбой. С судьбой, которая кажется спящей или слепой, пока в один прекрасный день не откроет глаза и не воззрится на нас.