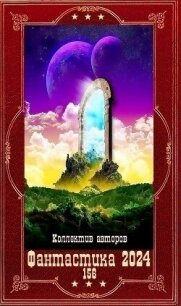Шаги во тьме - Пензенский Александр Михайлович (бесплатная регистрация книга TXT, FB2) 📗
Как вернулся в Петербург, помнил не очень отчетливо. Что ел, на что пил? Запомнил только, что ссадили его в Смоленске за драку, но с кем дрался, из-за чего – в памяти не удержалось. Да и на том спасибо, что просто из поезда выкинули, в кутузку не сдали – добрался до Москвы на следующем и до Питера докатил уже тихо, без приключений.
В столице пил еще неделю, прогуливая отложенное на свадьбу. Лавку скобяную, наилучшую во всей Извозчичьей слободе, на замок закрыл, пропивая нажитое за три года. Может, так и подох бы еще тогда под чужим забором, если бы в очередном кабаке, роясь по карманам в поисках денег, не вытащил из нагрудного клочок бумажки. Развернул, вгляделся. Адрес, местный: Ямская, дом 22. И приписка по-польски: «Przepraszam [20]». Вот почему тогда в Величке пан Шикниц полез обниматься и долго хлопал Франца по груди, старый лис.
Два дня он, трезвый, в новом пиджаке и начищенных сапогах, с выскобленным подбородком и нафиксатуаренными усами, в фуражке с лаковым козырьком, фланировал по Ямской мимо того самого дома. И на третий все-таки дождался ее. Альбинка выскочила из-за угла (видно, не так уж богато жил в Петербурге пан Качинский, коль женка его по черной лестнице ходила) – в справном жакете, обтягивающем ее тонкую фигуру, в лазоревой юбке, такая же красивая, как и три года назад.
Хотел подойти сразу, да оробел – что он скажет ей? Она – мужнина жена, с дитем. И чего только зазря два дня ходил, в голове даже не сложил, что делать, ежели ее увидит. Потому пристроился за пани Качинской, поплелся, как собака по заячьему следу. Дошел таким манером до Ямского рынка, посмотрел, как Альбинка в рядах наполняет плетеную корзинку снедью, как торгуется. Пару раз даже совсем близко подбирался, так, что руку протяни – и вот она, золотая прядка, что из-под платка выбилась.
Опять не подошел. Потащился за ней дальше, по Боровой, да на Николаевскую. И упустил! Пока обошел какого-то ширококостного мастерового, упустил девку! Заметался, заозирался, нырнул в арку – а ну как она срезать дворами решила? Выбежал на свет – и получил прямо под дых! Согнулся пополам – и еще по фуражке получил, да так, что та слетела и колобком прямо в лужу откатилась.
– Ты чего это, шнырь, за мной ходишь? Я тебя еще в мясном ряду приметила! А ну, дворника сейчас кликну! Ох!.. Францишек…
Корзинка бухнулась наземь, покатилась капустная голова к поблескивающей козырьком из лужи фуражке.
Как сидели после прямо на земле, как ревела в голос Альбинка, да и сам Франц слезы по роже размазывал, лучше и не вспоминать – и тошно, и стыдно, и по сей день под ложечкой ломит. Проговорили чуть не до темноты. Про то, что выдал отец ее силой, польстившись на рассказы Адама о красотах жизни в русской столице. Про то, что жили они с мужем ладно, мирно, как все. Про то, что Адам любил и жену, и дочь. И дочь его любила. А жена?.. Что жена… Жене любить не обязательно. Про то, как горбатил Франц сперва на хозяина, потом уж на себя, три года без продыху, про то, как из Ягелло и Франца Яновича стал в слободе Лебедем, просто Иванычем и первейшим мастером по лошадиной упряжи – про то промолчал. Об чем уж тут говорить?
Но с того дня лавка у Франца днем больше не закрывалась, а вечерами торчал Лебедь не в кабаке, а на Ямской, будто городовой на углу. Когда встречал Альбинку, когда впустую прозябал. Удачными считались дни, когда удавалось пройтись рядом до угла, сунуть кулек с баранками или жестянку с монпансье для девчонки, и чем дальше, тем дней таких становилось больше, а случайные прогулки выдавались длиннее.
А потом пришел август 1908 года. На излете месяца в газетных заголовках зачастило слово «холера». Будто мало у города было способов умерщвлять своих жителей. В сентябре тротуары стали посыпать известью и проливать карболкой. По городу сновали кареты с надписью «Санитарный экипаж», у церквей, рынков, мостов стояли мохнатые лошадки, запряженные в подводы с бочками с кипяченой водой. Почитай на каждом перекрестке рядом с газетчиками специальные люди раздавали листки, а то и целые книжицы о том, как бороться с заразой (и листки, и тем более брошюры местные брали с большой охотой, даже те, кто подписывался крестом: бумага тонкая, дешевая, очень для самокруток годящая). Тут же повылазили невесть откуда коробейники с амулетами, оберегами, приговорами. Может, все это и помогало, но каждый день кого-то хоронили. Целые квартиры стояли пустые: если кто-то заболевал, то несчастного везли в Обуховскую больницу, а остальных сожителей в карантин, жилье же отдавали на дезинфекцию.
Косила костлявая без роздыху, старалась. Слухи ходили один страшнее другого – Лебедь сам слышал, как бабка Сковородникова, торгующая на углу пирожками с ливером, рассказывала, крестясь для подтверждения достоверности, что ей сын-извозчик докладывал, будто доктора холерных не лечат, а сразу бросают в большую яму позади больницы, глубоченную, что и дна не видно, а только если наклониться над ней, то слышно: «У-у-у…» – маются душеньки неупокоенные.
Но слухи слухами, а однажды, придя на свой пост к дому 22 на Ямской, Лебедь увидал у входа экипаж с той самой тревожной надписью. Чуть погодя двое мундирных вывели через парадный ход Адама Качинского, подсадили под руки в карету и увезли. В другой карете уехала Альбинка с дочерью.
Тогда-то и познакомился Франц с русскими попами. Неделю не пропускал ни единой службы в этой самой церквушке, у которой сейчас вспоминал он свою забулдыжную жизнь. Жег свечки у иконы неизвестной доселе Тихвинской Божьей матери и слушал золоторизного бородача. О карах за грехи, о терпении, о спасении в молитвах. Сам молился, как умел. Крестился слева направо. Батюшка на это хмурил брови, но молчал – молится человек, стало быть, уже с Богом разговаривает. Не важно, на каком языке, – на то он и Бог, чтоб всякий различать. Между службами ходил сперва в больницу, справлялся об Адаме, а после носил гостинцы в изоляционное убежище.
Адам помер на рождество Пресвятой Богородицы. Альбинку с дочерью Лебедь встретил на половине пути. Сунул Таське петуха на палке, посадил на лавку, отвел мать в сторону, взял за руки. Та не завыла, только закусила губу.
– Схоронить помогу. И потом не брошу, – только и сумел выдавить из себя Лебедь.
А на другой день после похорон приехал на ломовике, вдвоем перетаскали из воняющей карболкой квартиры пожитки, усадил Альбинку с Таськой и перевез к себе.
С той осени уже прошло четыре года. К Таське добавились еще три девчонки. Что бы там ни болтали злые языки, а всех трех будто с него рисовали. И вроде жили поначалу хорошо. Он торговал, Альбинка по чуть-чуть шила по знакомым. Попробовал вспомнить, когда все повернуло не туда? Как он из зажиточного лавочника, который приказчика держал и думал расширять предприятие, превратился в торговца самошитыми торбами, который сам же и шлялся со своим товаром по ямским дворам, пропивая все копейки, что наторговывал? Все водка проклятущая, права Альбинка. Хоть бы и не пробовать ее б никогда. Так он бы и не попробовал, если б не Альбинка. А чего ж ты опять-то ее глыкать начал, будто спросил кто-то невидимый. Хотел жениться на девке – женился. Жить с ней мечтал – так живешь. Не за тебя вышла? Будто ты не знаешь, как это делается? За кого отец велит, за того и пойдет. Али ты своих по-другому определять станешь? Баба – животина бесправная, всю жизнь при мужике проживать обязана. Бьет – терпи. Пьет – терпи. Любит – в ответ люби, дура.
Это все город этот. Сосет, тянет силы из человеков. Огни Невского только дурака обманут – болотные то огни, колдовские. Заманят, затянут в такую тьму, что не выбраться, не выплыть. Не зря почитай на каждом мосту можно прямо на граните имена утопленников выбивать. Поубористей только надо, иначе места не хватит. Выберет город себе кого послабже, придавит своим небом низким, подтолкнет в спину ветром с залива, пришепчет черной водной рябью – и рад сам уже человек последний шажок сделать, пока вода еще не спряталась в лед, не укрылась снегом.