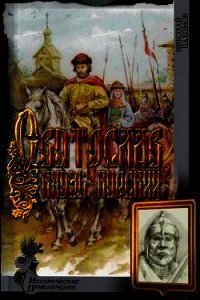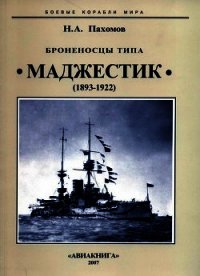Золото гуннов (СИ) - Пахомов Николай Анатольевич (книги онлайн TXT) 📗
Как Ратша ни готовился к зиме, как ни запасался, но еле пережил-перемог. Исхудал так, что на ребрах, как на струнах гуслей, гудеть-поигрывать можно.
Черныш не лучше — брюхо под хребтину подтянуло. Но ничего, держится. Только изредка поскуливает да глазами своими маслянистыми вопрошает, когда, мол, пост окончится? Когда, хозяин, говеть-то перестанем?..
Ратша жалеет псину, но помочь пока ничем не может. Сам-то при нужде и одним взваром травяным перебивается, а Черныша взваром не насытишь. Пес может, конечно, и взвар остывший полакать, если жажда прижмет. Но тут дело не в жажде, а в голоде, потому как псу без мяса никак нельзя.
Если Черныш страдал от нехватки мяса, то Ратша — больше оттого, что не было хлебца и сольцы. Впрочем, плохо без соли, но все же не смертельно. А вот без хлеба русу — горе-горькое. У руса хлеб — всему голова. Только где его взять-то, хлеб-хлебушко? На деревьях он, как шишки, не растет. А в весь родную путь Ратше заказан — беду можно на весь род навлечь. Гунны злопамятны и мстительны. Не простят роду поддержки изгою. Тут и так надо Сварога вечно благодарить, коли весь русскую уберег от гуннской расправы после его ухода.
Зима зело холодной не была — пещерка ни разу не выстудилась, не промерзла. Но уж слишком часто вьюги бушевали да метели снегами играли. А когда в лесу снегу по пояс, то особенно не побродишь, не поохотишься. Да и зверье от бескормицы перебралось туда, где снегов поменьше, а снеди побольше. Косачам да глухарям — приволье. Так закопаются в снег, что и с псом не отыщешь. Не очень-то в расставленные Ратшей силки суются. Потому-то и приходилось перебиваться без мясного. Но Ратша не ропщет. Жив-здоров — и слава богам светлым, богам русским.
Как ни трудно было Ратше, однако счет дням не терял. На специально вытесанной им палице ножом резки наносил, деля на седмицы. Только вздыхал: «Как долог будет счет дням изгойным? Хватит ли палицы для резок, или иные тесать придется?»
Но вот веселый и златокудрый Ярило отобрал однажды ключи у Зимерзлы, примял снега до земли-матушки и изгнал холода за горы высокие, за леса далекие.
Сосны и ели скинули свои толстенные белые шубы, березки и осинки — покрывала из инея серебристо-алмазного сотканные. Все веточками своими вверх, к теплу, к свету потянулись. Омовение в солнечных лучах делают, к возрождению готовятся.
Обладилось дело и с добычей птицы. С конца месяца лютеня глухари на токовище, как русы на торжище, собираются. Друг перед дружкой, особенно петушки перед курочками, песнями брачными да оперением бахвалятся. Да так в танцах своих распалятся, что вокруг ничего не видят и не слышат. Бери их голыми руками. И не только глухари, но и косачи, и рябчики. Рябчики, правда, подробнее будут. Но ничего, Ратше и Чернышу и их мяса вполне хватает. Черныш повеселел, опять в тело вошел. Шерстка залоснилась.
Лесная яруга, где притулился изгой с пещеркой, тоже весну красную почувствовала. Если на теневой стороне еще ноздреватый снег оплывшей глыбой лежит, то на солнечной, где пещерка, прошлогодний лист уже шуршит. Освободился от снежного наста, подсох на солнышке. И земелька парить тут начинает. Благодать.
«Живем, друг Черныш! — Подмигнул по-лешачьи Ратша верному псу, вдыхая полной грудью парной, пьянящий земляной дух. И пес кратким, но радостным лаем подтвердил: «Верно, хозяин, живем!»
Весна, конечно, радовала. Особенно на первых порах. Ибо зима с ее белесо-хладной однотонностью надоела хуже горькой редьки. Но это поначалу. Потом радость как-то притупилась что ли, померкла. Как лезвие топора либо ножа после частого употребления. Полиняла, утратила новизну ощущений. Иные мысли с дуновением ветров хмельных нахлынули, сменили прежние.
И зимой Ратше без супружницы было невмоготу. Едва ли не каждую ночь снилось горячее тело Светланки, ее нежные руки, горячие губы. Да так, что в паху сводило, сладкой истомой среди темной ночи пробуждало. А уж весной, когда букашка к букашке липнет, когда пташка к пташке клювиком тянется, совсем невтерпеж стало.
«Как только землица после снегов обвянет да подсохнет, как только первые листочки красному солнышку порадуются, схожу тайком до веси, — решил Ратша. — Хоть издали, но посмотрю-полюбуюсь».
Как решил, так и сделал. Да только лучше бы, как и ранее, жил в тоске-кручине да неведении. Сбылись, сбылись слова Севца: постучались Кара да Туга в дверь рода. Не стало в веси Светланки.
Дознался Ратша, что вскоре после его ухода в изгойство, налетели гунны на весь. Многих в роду побили-примучили, а Светланку его, березоньку стройную, светлоокую да златокудрую, вместе с сыном-первенцем забрали с собой.
«Теперь у хана Харатона постель согревает, — понял, содрогнувшись, Ратша. — Или у кого иного… — внес горькую поправку он. — А из сынка, по своему обычаю, гунненка взрастить хотят, чтобы не помнил роду-племени».
И выкатились из глаз против воли его горячие слезинки. И обожгли пламенем гнева ланиты. Закровавила, закровоточила на сердце рана. И потребовала, сжавшись от боли, душа отмщения.
Как добрался до пещерки, Ратша не помнил. Только с той поры не стало гуннам Харатона покоя. Невесть откуда вдруг вылетали стрелы — и души степняков, то удивляясь, то недоумевая, то негодуя, тут же отправлялись на суд Тэнгри. А на лесной дороге, опять же ни с того ни с сего, средь белого дня падало древо, калеча гуннских всадников. Могли раскрыть свою пасть и «волчьи ямы» на, казалось бы, не раз проверенном пути. Не должны они были быть там, а были. Неизвестно, как возникали, но, возникнув, добычу не упускали, принимая и коней, и всадников на острия кольев.
Оставшиеся в живых что-то бредили про духа лесного, бестелесного, бесплотного, то филином ухающего, то вороном каркающего, то псом лающего. Другие что-то баяли про великана многорукого, сплошь волосами заросшего, из земли появляющегося и в землю уходящего.
Им верили и не верили — так уж у людей повелось издревле — но появляться в одиночку близ дубрав и рощ опасались. Однако, как ни опасались, но вновь и вновь попадались.
Пытался Ратша дотянуться и до самого Харатона. Не раз вышагивал с верным другом Чернышом десятки и десятки поприщ, чтобы до его стана добраться. Только днем и ночью охраняли его с недремлющим оком нукеры. Да и сам хан опаску имел: никогда дважды в одном и том же шатре не ночевал. Мог в один в своей одежде и своем обличии войти, а затем в другой под чужой личиной перебраться…
Как ни скребло на сердце, как ни щемило в душе у Ратши, приходилось возвращаться.
Если Харатону везло, то его ближайшим родственникам не очень. То одного, то другого настигала меткая стрела Ратши. И часто их хладные трупы уже находили без золотых и серебряных украшений, без шейных гривен и ручных браслетов, ставших добычей Ратши. Впрочем, это его мало радовало. Любая пролитая кровь требовала отмщения. Через год, через два, или даже через века, но в любом случае отмщения. Такова воля богов.
Ратша это разумом понимал, но поделать ничего не мог. Зов собственной крови, завет пращуров «око за око, зуб за зуб» были выше разума, действовали помимо его воли.
Сколько бы лет пришлось Ратше в одиночку продолжать войну с гуннами, сколько бы зим пришлось ему отсиживаться в пещерке, неизвестно. Он и к такому повороту был готов, сроднившись с лесом и его обитателями, запасаясь снедью. Да так обвык в лесу, что ходил — ни сучок под стопой не треснет, ни трава не зашелестит, не заплетется, ни лист не шелохнется. Словно не ногами ходил, а по воздуху над землей скользил.
На что Черныш, зверь умный и чуткий, но и тот всякий раз вздрагивал, когда Ратша к нему неслышно подходил. А потом удивленно либо изумленно пялил маслянистые глазенки: ты ли это, хозяин, или дух лесной.
Только боги все же смилостивились над невольным изгоем. Как-то по осени, ближе к очередной зиме орды гуннов и их союзников двинулись походом в теплые страны. Земля семцев и севцев очистилась от степных наездников. Они хоть и значились союзниками, но избавь Сварог русичей от таких друзей, более похожих на врагов.