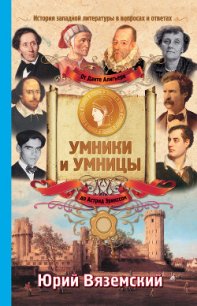Шерлок от литературы (СИ) - Михайлова Ольга Николаевна (читать хорошую книгу полностью .txt) 📗
Мы прошли на кухню.
— Ваши вкусы совсем не питерские, Михаил, — осторожно обронил я, садясь у барной стойки.
— Это и бабушка говорила, — согласился Литвинов, покаянно повесив голову, и тут же поднял её, ставя на плиту кофе и доставая из холодильника кулебяку. — Подлинную цену жизни познаёшь, когда теряешь всё. Бабуле после блокады буханка хлеба казалась сокровищем, а бриллианты — ненужной стекляшкой. Она не любила ковры и пледы и никогда не носила украшений. А у меня это, надо полагать, издержки взросления.
В кухне, явно не рассчитанной на большие компании, было тепло и уютно. Я совсем расслабился и неожиданно для себя самого перешёл на «ты».
— Почему ты прихрамываешь?
Ответ шибанул меня, как взрыв фугаса.
— Панджшер, — со странной вежливостью ответил он. — Правда, пробыл я там всего три месяца и, в общем-то, дёшево отделался. Уже полгода хожу без палки, но после долгой ходьбы слегка заносит. Никак не могу отучиться думать, куда ставить ногу. — Он зло поморщился и нервно закурил. — Это неумная военная компания напоминает юношеские потуги на блуд, не вовремя начинаешь и кончаешь, когда не надо. — Потом, утонув в клубах дыма, неожиданно добавил, — кто это сказал, что война без ненависти так же отвратительна, как сожительство без любви?
— Тебе долго это снилось? — спросил я, не ответив ему.
— Пару месяцев, — педантично ответил он. — Потом я сказал себе, что не позволю дурным воспоминаниям испортить себе жизнь. Это было не логично, но интуитивно. — По его лицу пробежала тень. — Меня там называли скелетом и удивились, когда пуля попала в бедро. Мой командир так прямо и рубанул: «А у него разве есть ляжки?» Оставим это, — отмахнулся он.
Я тоже не хотел говорить на эту тему, однако, заметив, что он не чурается вопросов, решился спросить о том, что уже полдня интриговало меня.
— Ты сказал, что всем не хватает любви…
— Сказал, — кивнул он, загасил окурок и с явным аппетитом вгрызся в кусок кулебяки.
— Но этой Аверкиевой, — я осторожно разрезал свой кусок на две половинки, — ведь ей тоже не хватает любви.
— Ой, ли! — расхохотался Михаил, но потом стал серьёзнее. — Каноническая формула гласит: «Бог есть любовь», но по законам логики обратное не обязательно верно. Не каждая любовь, поверь, божественна. Важно тонко различать дефиниции. Любовь и женщина — понятия не тождественные. Ищи я аналог, обрёл бы его в буддизме. Женщина — пустота. Пустота засасывает. Вот почему мужчину влечёт к женщине. Любовь тут совершенно ни при чём.
Он так артистично кривлялся, что я не мог не рассмеяться.
— Хотя, кто знает, — философично добавил он, — может, и существуют женщины, с которыми можно провести вечность, — он закатил глаза в потолок. — Но не жизнь. Я готов тратить на женщину время и деньги, но мотивация должна быть убедительной. Пустота же неубедительна, — деловито продолжал паясничать Литвинов. — Безграничная любовь развращает безгранично, а ведь рамки приличий и без того расширились до безобразия.
Мишель допил кофе и неожиданно смущённо пробормотал.
— Раньше угрызения совести преследовали меня после каждой любовной истории, а теперь — ещё до неё. Порой я чувствую себя фетишистом, который тоскует по женской туфельке, а вынужден иметь дело со всей женщиной. При этом чтобы сделать женщину несчастной, иногда достаточно просто ничего не делать, вот в чём ужас-то.
Сентенции Мишеля в какой-то мере прояснили для меня положение.
— Бедная Ирина Аверкиева, — небрежно обронил я.
Литвинов небрежно отмахнулся.
— Такие мечтают о Казанове, у которого не было бы других женщин, а окрылённые любовью уподобляются летучим мышам. Их любовь — не жалобный стон далёкой скрипки, а торжествующий скрип кроватных пружин. Но в итоге от тебя останется одна тень, предупреждаю, — подмигнул он. — Я же изначально слишком тощ, чтобы пускаться в подобные авантюры.
Он тонко сместил акценты, несомненно, поняв, что девица заинтересовала меня.
— Девочка меркантильна? — уточнил я.
— Можно ли купить любовь за деньги? — брови Мишеля снова шутовски взлетели вверх. — Конечно. Купи собаку. А тут бесплатной будет только луна. А главное, — он склонился ко мне, нравоучительно подняв указательный палец, — избегай секса. После него дело обычно доходит до поцелуев, а там и до разговоров. И тут всему приходит конец. — Он вычертил длиннопалой рукой в воздухе Андреевский крест. — Истинную формулу любви оставил нам Гёте: «Если я люблю тебя, что тебе до того?»
Нахал сказал вполне достаточно, чтобы предостеречь меня, и я сменил тему, спросив, почему он поступил на филфак?
Михаил пожал плечами и ответил вопросом:
— Я всегда любил полнолуние, свечи в шандалах, крепкий кофе, разговор с умным человеком и книги. Что из перечисленного я мог сделать профессией?
— Ты не разочаровался?
Литвинов пожал плечами.
— Говорят, — Мишель подмигнул, — по крайней мере, Щедрин и Булгаков обронили, что литература изъята из законов тления. Она не признает смерти, и рукописи-де не горят. Когда я это впервые услышал, ужаснулся, но оказалось, что всё обычная ложь. Поэты слишком много лгут. Рукописи прекрасно горят, и каждая сожжённая книга освещает мир, а иные, те, что с добротными картонными переплётами, ещё и согревают.
Я снова усмехнулся, а Литвинов, вытаращив огромные глаза, продолжал.
— Литература — тень доброй беседы, а русская литература — просто национальный невроз, — он сморщил нос, точно унюхав зловоние нужника. — Советская же ещё и инфернальна вдобавок. В этом году у нас два семестра изучения самых диких литературных искажений и духовных перекосов.
— Мне казалось, тебя должна больше интересовать философия, — я заметил на лекции по истории философии, что Литвинов — любимец профессора.
Мишель картинно содрогнулся.
— Философия громоздит эвересты мысли, но каждый философ субъективно и нагло исходит не из меня, а из себя, и мир оказывается то категорическим императивом, то волей и представлением, то борьбой классов, то ещё какой-то ерундой. — Он вздохнул. — Философия, конечно, аристократична, как аристократична жажда мудрости, но Россия давно утратила аристократизм, его вывезли на известном пароходе. В итоге оставшимся здесь в философии нет ни нужды, ни проку. Разве что диссертацию сляпать на эклектике старого вздора и вздорных новинок. Народ мыслит эмоциями, интеллигенция — амбициями, интеллектуалы — заскоками. И вообще, — оборвал он себя, — после того, что мы вытворили со своей страной, нам ещё сто лет просто молчать надо. От стыда. Мы не умеем думать сами или не умеем мешать думать своим дуракам, и потому — silentium.
— Было бы более людей, знакомых с русской литературой и искусством, никаких таких страниц истории и не было бы. Так ты сторонник чистого искусства и академической науки? — уточнил я, пытаясь разобраться в его взглядах.
— Нет, с чего бы? Я, скорее, консерватор, а главное сторонник крайней элитарности оценок и противник дурных идей, — пожал он плечами, явно удивившись. — Увлечение нашего национального гения и основоположника литературы Вольтером отрыгнулось нам декабризмом. А дальше по накатанной дорожке — «декабристы разбудили Герцена ets». Революции начинаются порой за столетие до своего начала и в основе всегда одна-две ложные, безбожные и пламенные идейки, проникающие в набитые паклей мозги. Рано или поздно головы запылают. Вот тут и понимаешь инквизицию с ее «Индексом запрещённых книг» и борьбой по охране ватных мозгов от пламенных идей. У нас же, как верно изволил заметить другой национальный гений, «русский Бог сплоховал». Именно поэтому не могу согласиться с утверждением, «было бы более людей, знакомых с русской литературой и искусством, никаких таких страниц истории и не было бы..» Наоборот. Чем меньшее влияние имела бы наша литература с её пенями о «маленьком человеке», «зовом к топору» да некрасовскими «свободой, равенством да братством», — тем больше шансов было бы уцелеть в 1917-ом. Миром правят идеи, причём, пошлые идеи, материализующие в нужный дьяволу момент. Потому-то литература отвечает за весьма многое, она распространяет идеи. И раздолбанные идейки постмодернизма с их алогизмом и фрагментарной реальностью нам ещё тоже, уверяю тебя, отрыгнутся.