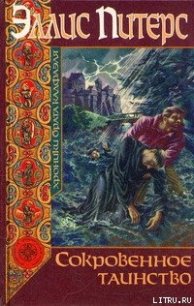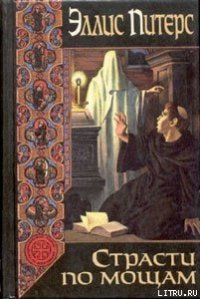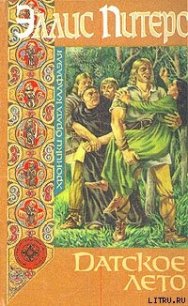Покаяние брата Кадфаэля - Питерс Эллис (книга жизни .TXT) 📗
— Ты хотел что-то сказать мне, брат. Я готов выслушать. Садись и говори свободно.
Он указал рукой на стоявшую справа от стола деревянную скамью, покрытую овечьей шкурой. Кадфаэль предпочел бы беседовать стоя, но повиновался этому жесту и сел на указанное место. Филипп, по-прежнему сосредоточенный и внимательный, повернулся к нему.
— Итак, что тебе от меня нужно?
— Я полагаю, что ты держишь в заточении двоих людей, и хочу попросить тебя вернуть им свободу.
— Назови имена, и я скажу, не ошибся ли ты.
— Одного зовут Оливье Британец, другого — Ив Хьюгонин.
— Да, — невозмутимо подтвердил Филипп, — они мои пленники.
— И содержатся здесь, в Масардери?
— Здесь. А теперь объясни, почему ты считаешь, что мне следует их отпустить?
— Я полагаю, что человек, не чуждый справедливости, должен отнестись к моим словам серьезно. Судя по тому, что я знаю об Оливье, ему и в голову не могло прийти последовать за тобой и перейти на сторону Стефана. И он был не одинок — нашлись и другие, не пожелавшие поддержать тебя. Все они стали пленниками и были розданы приверженцам короля, чтобы те могли разжиться выкупом. Это делалось открыто и ни для кого не секрет.
— Но почему же судьба Оливье остается для всех тайной?
— Для тебя это уже не тайна, — суховато, с мимолетной усмешкой заметил Филипп.
— Это правда. Ты не стал отрицать, что держишь его в заточении. Но почему никто не знал об этом раньше? Справедливо ли было скрывать его участь? Ведь нашлись бы люди, готовые заплатить за жизнь и свободу Оливье любую цену.
— Действительно любую?
— Назови свою, и я уверен, что тебе заплатят больше.
Последовала долгая пауза. Филипп пристально всматривался в лицо монаха широко раскрытыми глазами, в которых ничего нельзя было прочесть, а потом спокойно и очень тихо сказал:
— Возможно, я согласился бы взять взамен жизнь другого человека. Чтобы тот томился в заточении вместо него.
— Возьми мою, — не раздумывая предложил Кадфаэль. В сводчатом проеме высокого окна облака заслонили звезды, и теперь каменная стена казалась светлее потемневшего неба.
— Твою… — повторил за монахом Филипп без видимого удивления или любопытства, но с нажимом, так, словно собирался высечь это слово на стальных скрижалях памяти. — Но какой мне прок от твоей жизни? Разве у меня есть причина ненавидеть тебя и желать тебе зла? Что дурного сделал мне ты?
— А какой прок тебе от его жизни? Разве у тебя есть причины ненавидеть его? Что дурного сделал тебе он? Не поддержал тебя — только и всего! Не захотел изменить своему долгу, когда ты изменил своему. Точнее, — тут же поправился монах, — когда он решил, что ты изменил своему. Я сам пока не знаю, как расценивать содеянное тобой, но он не из тех, кто долго размышляет и вникает в причины, перед тем как вынести суждение.
Едва успев промолвить эти слова, монах понял, что для такого человека, как Филипп, презрение Оливье было смертельным оскорблением. Эти двое — Филипп и Оливье — и впрямь были под стать друг другу: гордые, искренние, не привыкшие таить свои чувства. Оливье представлял собой как бы зеркальное отражение Филиппа, причем отражение, обличавшее и укорявшее его. Чем выше ценил Филипп Оливье, тем горше и невыносимее были для него упреки былого соратника.
— Он был тебе дорог, — не таясь высказал свою догадку Кадфаэль.
Отрицать этого Филипп не стал.
— Да, был. Но это не первый случай, когда от меня отвернулся близкий человек. Ничего нового тут нет. Потребуется лишь время, чтобы забыть о близких соратниках и продолжить свой путь в одиночку. Но скажи, ты-то с какой стати предлагаешь себя вместо него? Хочешь, чтобы твои старые кости рассыпались в прах в подземелье? Кто он тебе, этот Оливье Британец?
— Он мой сын.
Повисло долгое, томительное молчание, а когда Филипп наконец прервал его, тяжело вздохнув, Кадфаэль почувствовал, почти физически ощутил, что могло значить услышанное для его собеседника. Ведь и у Филиппа был отец, с которым ныне он пребывал с непримиримом раздоре. А еще у него был старший брат. Уильям, наследник Роберта. Не в этом ли кроются истоки разлада? Отец оказывал предпочтение старшему сыну, оставляя почти без внимания нужды и просьбы младшего? Возможно, тщетные мольбы о помощи Фарингдону оказались последней каплей, переполнившей чашу терпения Филиппа. Но нет, это могло быть лишь одной из причин. В действительности все обстояло гораздо сложнее.
— Неужто отцовский долг простирается так далеко? — сухо спросил Филипп. — Как ты думаешь, мой отец хоть пальцем пошевелил бы, чтобы вызволить меня из темницы?
— Окажись ты в беде, он непременно бы тебя выручил, — твердо заявил Кадфаэль. — Мы оба это знаем. Но сейчас в беде не ты, а Оливье. Именно ему требуется помощь.
— Ты разделяешь общее заблуждение, — безразличным тоном возразил Фицроберт. — Не я первый отрекся от него. Это он меня бросил, сочтя предателем. А ведь я принял непростое решение. Но что еще оставалось делать человеку, желающему покончить с разорением страны, как не попытаться бросить все свои силы на другую чашу весов? Дай только Бог, чтобы это не оказалось напрасным. Сколько еще бедствий сможет вынести несчастная Англия?
Он говорил почти те же слова, что и граф Лестерский, но вот средство для исцеления страны избрал совсем иное. Роберт Горбун пытался свести вместе самых здравомыслящих и рассудительных представителей обеих партий, надеясь, что они придут к согласию и покончат с войной. Филипп же не видел иного пути к миру, кроме окончательной и полной победы. После восьми лет разорительной усобицы ему было все равно, кто восторжествует, лишь бы победитель восстановил хотя бы некоторое подобие закона и порядка. Филиппа заклеймили как изменника и так же называли Горбуна, когда тот не прислал свои войска на подмогу королю. Но, возможно, именно таким людям, как Лестер и Фицроберт, и суждено стать спасителями своей истерзанной родины.
— Ты сейчас говоришь о короле с императрицей, и твои мысли и чаяния мне понятны. Но ведь я пришел к тебе, чтобы говорить о своем сыне. Я предлагаю тебе за него цену, которую ты сам назвал. Если ты говорил серьезно — а я не считаю тебя легкомысленным человеком, склонным идти на попятную, — прими ее и освободи Оливье.
— Постой, — терпеливо промолвил Филипп. — Если ты помнишь, я сказал, что, возможно, согласился бы взять взамен его жизни другую, но ничего не обещал. И потом — прости меня, брат, но неужто ты считаешь себя равноценной заменой молодому и сильному воину? Ты обратился ко мне как к человеку рассудительному, так прояви рассудительность и сам. Между тобой и твоим сыном большая разница.
— Это я понимаю, — сказал Кадфаэль.
Он понимал, что дело тут не в молодости, красоте или силе, а в той дружбе, которая некогда существовала между Оливье и Филиппом. Фицроберт не мог простить Оливье, ибо ждал от него полного понимания, а встретил неприятие и отчуждение.
— Понимаю, но тем не менее предложил тебе именно то, о чем говорил ты, причем предложил все, что я в состоянии отдать. Признайся, это ведь больше, чем ты мог ожидать.
— Ты прав, — согласился Филипп. — Но, брат, тебе придется дать мне время поразмыслить. Твое появление явилось для меня полной неожиданностью. Откуда мне было знать, что у Оливье такой отец. Да и вздумай я порасспросить, как тебя угораздило обзавестись сыном, ты небось не стал бы откровенничать.
— Тебе я, пожалуй, рассказал бы всю правду. Темные глаза Филиппа удивленно блеснули.
— Ты так легко доверяешься людям?
— Не всем, — сказал Кадфаэль и увидел, как блеск в глазах собеседника сменился ровным свечением. Вновь наступило молчание, но не столь тягостное, как в прошлый раз.
— Давай отложим это, — неожиданно предложил Филипп. — Не насовсем, разумеется, а до поры. Ты ведь пришел просить за двоих, а говорил пока только об одном. Что ты можешь сказать в пользу Ива Хьюгонина?
— Я могу заверить тебя, что он не имеет никакого отношения к смерти Бриана де Сулиса. Заподозрив его, ты совершил ошибку. Я уверен в этом прежде всего потому, что знал Ива еще мальчишкой. Он честен, и путь его всегда прям, как стрела. Я был свидетелем того, как, едва въехав в ворота приората Ковентри и увидев де Сулиса, Ив громогласно обвинил его в измене и схватился за меч. Он бросил вызов, но сделал это открыто, на глазах у множества свидетелей. Таков его обычай. Он мог убить де Сулиса в честном поединке, но никогда не стал бы подстерегать его в засаде с кинжалом наготове. А теперь припомни ту ночь, когда погиб де Сулис. Ив говорил, что пришел к повечерию в числе последних, а потому стоял возле самых дверей и вышел одним из первых, чтобы пропустить высочайших особ. В темноте он наткнулся на тело де Сулиса, опустился на колени, желая выяснить, в чем дело, а когда понял, что стряслось неладное, стал звать на помощь. Так и получилось, что он предстал перед всеми с окровавленными руками. Ты решил, будто в церкви он вовсе не был, а, убив де Сулиса, успел вычистить меч, спрятать его в своей комнате, а потом вернуться и поднять тревогу. Но скажи на милость, ежели он убийца, то зачем ему вообще было поднимать шум? Чтобы его застали рядом с жертвой? Ему бы прямой резон держаться подальше от мертвеца да поближе к людям, чтобы те могли засвидетельствовать его невиновность.