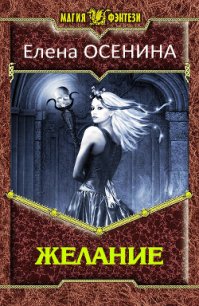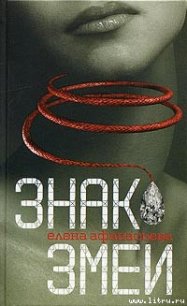Колодец в небо - Афанасьева Елена (бесплатные серии книг TXT) 📗
Настоятель монастыря приставал к Лодовико с жалобами на живописца:
– Иной день кисть в руки не возьмет! Часами стоит, уставившись в одну точку, и еще имеет наглость говорить, что он думает! Сколько времени без толку проводит в размышлениях, отрываясь от работы.
Этот не слишком опрятный монах считал, что с художников надлежит требовать, чтобы, взяв в руки кисть, они не выпускали ее из рук до окончания работы. Монах все зудел и зудел, пока Леонардо не швырнул в сторону длинную кисть, которой он указывал на размещенные за столом фигуры, объясняя Лодовико, почему он усадил Иуду рядом с другими учениками Христа.
– У меня нет натурщика, с которого я мог бы списать лицо Иуды. Если настоятель так спешит, я завтра же напишу Иуду с него, и все будет готово!
Видя, как растерянно захлопал глазами монастырский настоятель, Изабелла улыбнулась. Браво, Леонардо! Повернула голову к огромной фреске и – словно ей дверь окрыли – попала в иное измерение.
Алый, чарующе алый цвет рубахи сидящего на фоне окна Спасителя греховно совпал в ее памяти с иным красным. С каплями собственной крови на мраморном полу феррарского собора. И она вспомнила юношу-подмастерье.
Кто объяснит, почему она не помнила всех случившихся в ее жизни герцогов и королей, могущественных пап и принцев крови, но сохранила в памяти того мальчика.
Она, двенадцатилетняя, с отцом и братом Альфонсо приехала в только что построенный собор, подняла голову вверх и замерла. Хрупкий юноша парил в воздухе. То есть парил он в специально сконструированной для росписи купола люльке, но ей показалось, что юноша, как небожитель, парит прямо в этом теплом, льющемся из окон купола свете. Парит в свете и рисует свет.
Прежде Изабелла не задумывалась, можно ли свет – это великое ничто! – нарисовать. Не подобно ли это кощунственное намерение желанию солнечный зайчик гвоздями к стене прибить – чтоб не исчез. Солнце уйдет, солнечный зайчик погаснет и лишь гвоздь в стене останется. Не так ли с нарисованным светом? Когда схлынет очарование, не останутся ли от света лишь облупившиеся, чуть выцветшие краски.
Она глядела вверх и чувствовала, как по руслу золоченого свечения свет бурным потоком идет от купола, на который проливает его этот мальчик-подмастерье. Свет обволакивает, и купает, и наполняет ее существо столь бесконечно и беспредельно, что не оставляет места ничему иному. Разве что странному головокружению и непривычной вязкой боли внизу живота. И алым пятнам, что метят каждый ее шаг на мраморном полу собора.
Кровь ее стынущими каплями остается там, где должен быть только Бог. Спустившийся из своей небесной люльки юноша изумленно глядит на алые капли на сером мраморе. И не может дождаться мига, когда удалится герцогская семья, чтобы кистью собрать не успевшую засохнуть кровь. А после день за днем, ночь за ночью, отчаиваясь и снова обретая надежду, пытаться из оставшихся на его палитре оттенков красного и алого составить хоть что-то подобное…
– Ты стала девушкой, Изабелла, – сказала ей в тот вечер кормилица Асунта.
И она удивилась. Разве бывают такие совпадения – она стала девушкой в миг, когда в ее сердце впервые вошла любовь. Любовь безнадежная и отчаянная (разве юная герцогиня может любить нищего ученика придворного художника, годовое жалованье которого десять флоринов, тогда как ее последнее платье из крапчатого бархата обошлось в семьдесят пять флоринов и еще тридцать стоили три серебряных пояса?!).
– Это бывает с каждой, – объяснила кормилица, показывая, как в такие дни прятать под платьем завернутые вокруг шнура на талии штанишки, подобные мужским штанам брэ. – Странно, что Господь избрал для этого таинства такое место, и своей девственной кровью ты окропила камни нового храма. К добру ли?
Научив, как не путаться в странной вязи непривычной ее ногам и лобку впитывающей кровь ткани, которую следует закладывать в штанишки, кормилица сказала, что такое будет случаться с ней каждые четыре недели, пока она, став женщиной, не понесет. Тогда девять месяцев, пока младенец будет расти в ее утробе, эта кровь будет оставаться внутри нее, становясь небесной постелью для растущей в ней жизни. А пока постель не нужна, природа каждый месяц меняет ее алые простыни.
Спустя несколько дней, когда капли крови с мягкой ткани исчезли и она сбросила стесняющие движение штанишки, с радостью ощущая привычный ветер между ног, Изабелла снова пробралась в тот собор. Нанятый отцом художник болел, и юноша-подмастерье, закончив писать порученный ему свет, спросил дозволения расписать мантию небесного героя. У мантии, горящей на фоне почти мраморного – как пол собора – воздуха, был тот ни с чем не сравнимый стремительно-алый цвет. Цвет жизни, что в тот первый день их встречи сказала, что готова зародиться в ней.
Юношу художника она больше не видела. Но каждый лунный цикл, глядя на первую каплю крови на нижней юбке или на простыне, невольно вспоминала и мраморный пол, и оставшуюся на стене феррарского собора мантию, расписанную ни с чем не сравнимым цветом ее крови…
Спустя много лет, войдя в трапезную монастыря Санта Мария делле Грацие, Изабелла увидела тот же непередаваемый цвет первой крови на рубахе сидящего напротив окна Создателя, которого еще не успел дописать Леонардо.
Она ехала из Милана домой, не могла понять, что так поразило ее. Наносимая прямо на сырую штукатурку роспись Леонардо? Этот не похожий на все его прочие изображения Христос в этой невиданно алой рубахе? Всплывшее в душе воспоминание о юноше-подмастерье?
Или ее поразило воспоминание об ощущении света, который вливается в тебя из невидимого миру небесного колодца, – ощущении, с тех детских пор больше ни разу не случавшемся. Будто в тот раз случайно ступила на известную лишь Всевышнему точку истины, с которой только и можно зачерпнуть силы из небесного источника. Ступила, и так же случайно с той точки сошла. И больше не смогла отыскать ее нигде – ни в любовниках, ни во власти, ни в интриге. Ничто и никогда не наполняло ее столь бескорыстно и столь бесконечно, как рисуемый юношей-подмастерьем свет. Свет, до которого, казалось, так просто дойти…
Кем стал тот юноша? Новым, еще неизвестным ей гением или непризнанным художником, навечно обреченным смешивать краски, грунтовать холсты, дорисовывать овальные нимбы над сотворенными мастером ангельскими головами и копить несчастные сто флоринов на дом и еще двадцать флоринов на клочок земли? Или, вынужденный наняться в отряд одного из бесконечных кондотьеров, он погиб в одном из тех сражений, что год от года не утихают на этой земле. Или скончался от оспы или чумы, и его руки с тонкими, испачканными краской пальцами, покрылись язвами, обтянулись иссыхающей кожей и стали серыми, как сама смерть. Или он был отравлен завистливым соперником – соперником в искусстве или соперником в любви…
Вспоминал ли он тот давний день, как год за годом вспоминает его влиятельная герцогиня, вынужденная покорять монархов и герцогов, пап и убийц? Помнил ли он дрожь ее пальцев и следы ее крови на мраморном полу. Знал ли, что у блистательной правительницы маленькой Мантуи во всей ее отнюдь не скучной жизни не было мгновения более волшебного, чем тот миг в феррарском соборе. И та кровь. И тот свет.
Вспомнив тот миг, Изабелла, как и много лет назад, ощутила жар. И ей стало трудно дышать. Она приказала вознице остановиться и вышла из кареты.
Герцогский экипаж остановился в засеянном люцерной поле, увенчанном ближе к горизонту несколькими чахлыми деревцами с небольшим серым холмом между ними. Изабелла испугалась – не могильный ли холм, но, сама не зная отчего, пошла в его сторону. Через все поле, застревая прелестными парчовыми туфельками на высоком венецианском каблуке в рыхлой пахоте и цепляясь фламандским кружевом юбок за колючие стебельки зреющей люцерны. Почему-то не приказала вознице направить экипаж туда, к горизонту, а шла и шла, изнывая от палящего солнца, но отчаянно желая до того горизонта с деревьями и серым холмом дойти.