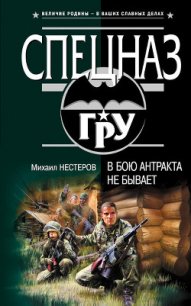Пирожок с человечиной - Кассирова Елена Леонидовна (электронные книги без регистрации txt) 📗
А искать что-то новое Костя больше не хотел и не мог.
Весь четверг он маялся дома и выслушивал Тамарину трескотню.
Соседние квартиры после стариков обновились. Рядом, панинскую, еще в июле переломал и переустроил компьютерный воротила Иванов Леонид Иванович. А дед Брюханов из квартиры напротив умер в сентябре, и сын продал ее какой-то денежной бабе. Она тоже оевропеила брюхановское жилье. Новая темная дверь была роскошна. Леонид Иванычева блистала металлом, а эта скромно темнела и не выделялась среди всех прочих старых.
Тамара игнорировала Иванова, но млела от бабы – не то банкирши, не то высокопоставленной любовницы.
– Кто такая, не пойму, Кость.
– Какая разница.
– Но ведь такие деньги.
– Много денег достать легко. Трудно достать мало. Тамара согласно вздыхала и опять млела.
– Ох, какая баба. Такая шуба. Каждый день новая.
– Красивая?
– Шуба?
– Баба.
– Не то слово, Кость. Худенькая, стройненькая, фигурка точеная, Клава Шиффер рядом – корова.
Стрижечка. Лицо – Голливуд. Ох, какая кожа, Кость. Какая кожа.
Костя улыбался было, но тут же мрачнел и уходил.
Один раз он услышал из коридора лифт и голоса и приоткрыл дверь, но опоздал. В дверном проеме напротив мелькнула пушистая волнистая пола. Нежно щелкнул замок, и повеяло благоухание, которое легкие жаждали вдыхать до спазм.
Бегом от наваждения он бросался вглубь квартиры к окнам и смотрел во двор. Дворовые балконы-крепости были неприступны, но некоторые уже сдергивали с себя зимнюю маскировку, обнажая камни и кости, зацветая лыжными палками, велосипедными колесами и рухлядью.
Вспомнились митинские балконные люльки. Ничем они не хуже здешних бельведеров. Что близ Кремля, что у черта на куличках – тот же хлам.
Вечером он позвонил в Митино Жэке.
Подошла «Кятя», сказала, что его нет, и где он – не знает, и ждать его не может, ей велят домой не позже одиннадцати.
В двенадцать и перед тем, как лечь, он еще позвонил.
Никто не подошел.
В пятницу 9-го он опять позвонил. Никого. Тогда он набрал номер митинского отделения милиции и сказал, что пропал мальчик, но там ответили: рано волнуетесь.
– Он что, домосед?
– Нет, – признал Костя.
– Вот и подождите три дня, потом приходите. Костя ждать не мог. Он поехал к ним в школу, нашел на перемене «Кятю» и узнал, что Жэка накануне вышел из митинской квартиры на какое-то дело. Вид у Жэки был таинственный. Не вернулся.
Так и есть. Костя помчал в Митино. Постучал в мужском отсеке к Жиринскому. Молчание. В женском торкнулся в две-три двери. Заперто.
Но кто-то что-то недавно делал: дух был теплый и кислый.
Вышел на лестницу. Тут не пахло. Поднялся на чердак. Пусто, поволяйкиной вонью не тянуло.
Костя съехал на первый этаж, прошел в соседний подъезд, поднялся. Наверху створки чердачной решетки были кое-как обмотаны проволокой. Костя размотал, прошел на чердак и вылез на крышу. Глянул на закладбищенские дали.
Снег с шири сошел, но весна не расцвела. Мир покрывала прошлая осень, когда Костя был счастлив. Просторы с осенней листвой и мерзлой травой казались теперь шальными и фальшивыми.
Но воздуху было много, как надежды. Дыши – не передышишь.
Костя подошел к кубику собственного чердака. Обе пары балконных рядов просматривались. Действительно, на балконах держали то, с чем нет сил расстаться, – хлам. Местами народ, как ранние мухи, ожил и сдернул со скарба тряпки.
Балконы Костиного этажа выворотили внутренности охотно.
Тут также крупная жизнь еще не началась, но мелкая не прекращалась с осени. С уличной стороны у Кисюхи склад провизии под целлофаном не изменил очертаний, у Миры валялись пустые сумки – сумки в сумки, как матрешки. Плещеев сумки убрал. Чемодан хранил железяки.
С Костиной кладбищной стороны у Жиринского стояла грязная табуретка, у Нинки так и засохла Костина мартовская мимоза, у Бобковой жухлые тряпки, а у Матрены Степановны убрано и стоял колоссальный эмалированный таз с густой желтой жижей. Вот оно что! Харчиха вернулась! Запустила, значит, квашню на куличи и выставила запас на балкон. Потому и пахло в коридоре опарой.
Костино открытие, тем не менее, ничего не дало. Жэки не было.
Чердачное оконце сидело на щеколде изнутри. Костя вернулся во двор тем же путем, остановился у подъездной лавочки и долго смотрел на часы, зачем-то следя за секундной стрелкой. Было два. Смирновы-родители еще и в ус не дуют. Теперь он тут вольный и невольный сторож. Без Жэки уйти нельзя.
С другой стороны, если парень попался тому чудовищу, оно, пряча его, само, возможно, вылезет для отвода глаз на люди.
Был вынос Плащаницы. Костя двинул в Покрова.
Он еще с крыши заметил, что черных точек там больше, чем на плешке.
В самом деле, вокруг церкви кипело. Правда, в кои-то веки у заборчика не стояло похоронного автобуса, но в двери входил и выходил народ. Стоял хвост за свечами.
В храме смешались знакомые местные с пришлыми с кладбища. В толпе Костя постепенно выудил глазами почти всех своих этажных. Чердачная троица – Серый,
Опорок, оба с мелочью в протянутых шапках, и Пово-ляйка – присели у входа на нижний выступ стены.
Вперемежку с митинцами и не-митинцами стояли Егор и его качки в портупеях, Митя Плещеев, Беленький с сыном, таким же чиновничьи безликим, только выше и толще, и Чикин-Чемодан. В середине торчали две головы – Нинки в черных кружевах и Кучина.
Старуха Бобкова, директриса Ушинская, Кисюк и, к Костиному изумлению, Харчиха стояли вместе группкой у стены впереди, а у царских врат – самая яркая Мира Львовна Кац. Эти были в обычных бабьих платках, будто закутались от ветра, а Мира в косынке, надетой символически. Газовый платочек не прикрыл прически. Спереди торчали кудри, а сзади вздымался пук.
Кац, и так природно яркая, больше всех искрила праздником.
Невдалеке стоял почти худой Жирный. Он оглянулся на Костю и сверкнул очками, но зло.
О. Сергий будто знать не знал о находке в подвальном капустном контейнере. Видимо, батюшка, схоронив мертвых, по Христову завету думал о живых. Навесил новые врата. Выходя кадить, на ходу протирал их. Створки заливали полумрак золотом, когда народ нагибался. Когда выпрямлялся, казалось, над морем голов вот-вот встанет солнце.
Касаткин с вечера изнывал от страха за пацана. Это был уже не страх, а какая-то голгофная тоска. Но тут Костя на миг забыл о мальчике.
«И тут сухая вода, – подумал он. – У католиков на мессе полтора человека, а у совков в храм очередь».
И правда, стояли все скромно и слито, будто не атеисты. Бывшая партийка Бобкова вдруг стала просто
старой и милой, Ушинская – искренней, Мира – тихой, Харчиха – вековой.
Забыли про больные спины и ноги. Стояли по стойке «смирно».
Мужики не отставали.
Беленькие казались типичными прихожанами. Седой старший в старом черном пальтишке выглядел церковным старостой. Чикин краснел, потел в ватнике и с тяжелой кубышкой, но стоял навытяжку и, когда все крестились, крестился. А Плещеев и вообще на ектенье подпевал «подай, Господи» приятным тенорком, не фальшивя.
Сальные Серый с Опорком и Поволяйка в тугом платочке тоже вполне законно заняли свою нишу.
Люди были едины и прекрасны. И только размещение их, в уголке или напоказ, вместе, попарно, поодиночке, напоминало о многоликом Митине.
Костя еще раз убедился, что рассуждал верно. Но никогда еще он так не страдал… Машинально повторял за отцом Сергием слова молитвы и невольно сам стал молиться. Страдал он уже не потому, что предан, а потому, что предал. Если Жэка погибнет, виноват он. Не уйди он, ничего не случилось бы. Но он ушел, потому что ушла Катя, а Катя ушла, потому что была записка.
Кто хотел рассорить их с Катей? Нюрка или Капустница? Скорее, Нюрка. Потому что Капустница – не хулиганка. Или кто-то вытуривал не Катю, а его, Костю?
Он спросил тогда Поволяйку, кто заходил днем в коридор. Ей слышны с чердака шаги на площадке. Она промычала: «Яшаходила». Теперь, без передних зубов, она слегка шамкала. «И что?» «Шашла, пмыла и пшла нпмойку». «А еще кто был?» «Гшпарв». Это Костя помнил. А Серого и Опорка, значит, выпустили опять. Драться с ними уже не придется. А лучше б драка, чем эта мука.