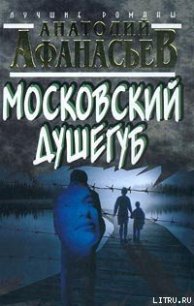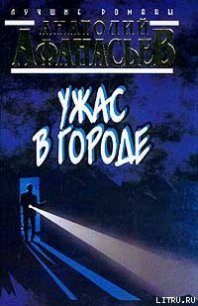Монстр сдох - Афанасьев Анатолий Владимирович (читаем книги бесплатно .txt) 📗
— Доброе утро, Леонид Иванович!
— Доброе, доброе, — пробурчал он. — Почему здесь? Чего домой не уехала?
— Сами не велели, Леонид Иванович. Обещали чем-то утром порадовать, — хихикнула, выжидая его реакцию.
Шахов молча прошагал к бару, нажал кнопку, открылось бездонное алкогольное мерцание. Выбрал наугад бутылку крепкой, анисовой, набулькал в хрустальную стопку, запрокинул голову, выпил, глубоко вздохнул. Острая жидкость будто нежным огнем прогладила пищевод. Первая сигарета и первый глоток зелья — ничего нет лучше на свете.
Обернулся подобревшим ликом к шелапутной девице.
— Говоришь, обрадовать обещал?
— О да, босс!
— Ну иди сюда, налью.
Подбежала собачонкой, грудь прикрыла косынкой, но рыжий лобок игриво топорщился, сиял, как молодое раннее деревце на рассвете. Нацедил настойки в фужер, приняла с реверансом. Близость сочной розовато-золотистой плоти взбодрила Леонида Ивановича, но как-то слабо, без обычного зуда в чреслах. Пока пила, ухватил ее груди под косынкой, крепко сжал, потискал.
Даже не поперхнулась, кобылка перезрелая.
— Может, в душ сбегать? — пролепетала блудливо.
— Никаких душей, — отрубил строго. — Одевайся — и вон. Нет, погоди, ступай кофе приготовь.
Вернулся в спальню, мгновенно забыв о Фаинке.
Развалился в халате на подушках, дымя черной карельской трубкой. Прикинул дневную программу. Дел сегодня немного, но есть важные: прямой эфир на пятом канале, встреча с банкиром Сумским и, главное, проплата в клинике Поюровского. Беспокоила не проплата, а сам Василий Оскарович, оборотень в белом халате.
Уже не раз и не два Шахов пожалел, что сошелся с ним в одной упряжке, поддавшись на льстивые уговоры и на то, что Поюровский вроде бы наткнулся на золотую жилу, которую никто до них не разрабатывал. Однако их монополия в довольно щекотливой сфере бизнеса продержалась ровно столько, сколько пробыл у правительственного корыта некто академик Чагин, осуществлявший надежное прикрытие каналов сбыта. С его неожиданным уходом в мир иной (на молоденькой медсестричке загнулся стервец!), оставленный без надлежащего присмотра рынок заполнился конкурирующими фирмами, как ухоженная грядка сорняками, — это во-первых. Во-вторых, сбыт "элексира жизни" и прочего в том же роде стал чересчур опасен, и эта опасность, учитывая ситуацию очередного передела собственности, вряд ли перевешивала пусть и значительные прибыли их совместного предприятия. Но поди втолкуй это Поюровскому. Обуреваемый первобытной жадностью, суперинтеллектуал готов был, кажется, на любом перекрестке вывесить рекламу: "Свежие младенцы и чистейшая кровь — только у нас! Цены ниже средних!"
Бомба могла взорваться в любой момент. Разумеется, общественное мнение и правоохранительные структуры в рыхлеющем, разодранном на куски государстве ничего не значили, но новые хищники-беспредельщики, ворвавшиеся в бизнес буквально за последний год (на волне очередного пришествия рыжего Толяна), обладающие уже вовсе непомерным аппетитом, любую оплошность могли использовать для того, чтобы вышвырнуть их с ухоженной коммерческой нивы. Подобное вышвыривание, как подсказывал опыт реформ, обычно сопровождалось примитивной физической вырубкой предыдущих пайщиков-акционеров.
Заслуженный врач республики Василий Поюровский по многим внешним характеристикам вроде бы принадлежал к тем хлипким интеллигенткам, толпой собравшимся у трона, для которых малейшее личное ущемление было равносильно мировой трагедии, именно поэтому они были столь пугливы и жидки на расправу и при соприкосновении с реальной действительностью ломались, как сухие стебельки на ветру. Не успеет такой нажраться досыта, а уже глядишь несут с почестями куда-нибудь на Ваганьково — то ли инфаркт, то ли крутой запор. Совсем не то — Поюровский.
Обладающий всеми признаками демократического творческого интеллектуала, он тем не менее был стоек, живуч и предприимчив, в чем Шахов многажды убеждался. В виду надвигающихся со всех сторон угроз знай твердил одно: нас не тронь и мы не тронем. Не пугайся, Шахов, ничего они с нами не сделают. И продолжал уверенно расширять дело, не далее как на днях прихватизировав еще одну небольшую, но престижную лечебницу в Кунцево, вдобавок к тем четырем, которые уже у него имелись.
Маниакальное стремление Поюровского заглотнуть больше, чем вмещает желудок, свойственное в общем-то всем натуральным рыночникам, естественно, вызывало у Шахова уважение, но он вовсе не хотел, чтобы его, образно говоря, вздернули на одной перекладине рядом с неутомимым добытчиком, а похоже, шло к тому.
Он верил в талант и ум Василия Оскаровича, но чувствовал в его начинаниях некую роковую обреченность, этакий кладбищенский отсвет. Может быть, сказывался возраст компаньона — пятьдесят девять лет не шутка. Получалось, что со всеми своими невинными слабостями — молоденькие девочки, рулетка, кокаин — он на чужом пиру справлял похмелье. Пока молод, было нельзя; подоспели светлые деньки, рухнул поганый режим, нормальные люди пришли к власти, а уже седина в бороду, силенки не те, вот и заспешил, точно ужаленный. Гнал по кочкам без тормозов. Наверстывал, что упущено — вопреки доводам рассудка.
Иногда в грустном раздумье Шахов приходил к мысли, что в судьбе Поюровского отразилась злая доля всего заполошного поколения так называемых шестидесятников, понюхавших чуток свободы при Хруще, а после прищемленных за языки на целый двадцатилетний пересменок. Что-то отморозилось в их сознании. Спеси, гордыни не убавилось, юные надежды их питали, но здравый смысл напрочь выдуло из башки, оттого и внешне они почти не менялись, какими были двадцать лет назад — розовощекими, настырными, с недержанием речи и блуждающими очами, такими в шестьдесят, семьдесят лет и в гроб ложились. Только ленивый не потешался над их карликовыми потугами изображать из себя влиятельных господ и властителей дум. Но все же надо отдать им должное, хватательный рефлекс у них с годами не притупился, хапали наравне с молодыми, по-черному, но сильного применения капиталу, как правило, не находили. Благодаря прежним связям быстро сколачивали миллионы и тут же спускали в какие-то одним им ведомые черные дыры. Василий Оскарович уж на что умен, на что хваток, а кроме этих четырех-пяти лечебниц, да небольшого счета в Женеве, да приличной дачки в Барвихе, ему нечего предъявить.
С дачкой вообще разговор особый. Если бы не Шахов, не видать бы ему ее, как своих ушей. Когда в 91-ом году после известных событий освободилось много правительственных угодий и началась из-за них настоящая рубка, именно Шахов через папаню супружницы спроворил Поюровскому поместье Аксентия Трибы, псковского ублюдка, который как раз накануне, по тогдашней моде, при загадочных обстоятельствах выбросился из окна.
— Кофе стынет, Леонид Иванович, — сунулась в двери Фаинка. — Не подать ли сюда?
— Испарись, — отмахнулся Шахов. — Сейчас приду.
Прежде всего следовало выполнить неприятную обязанность, отзвонить Катьке-супружнице. По негласному уговору они оба были свободны, но всегда ставили друг друга в известность о собственном местопребывании. Даже если по вечерам просто где-то задерживались. Мало ли чего.
— Как дети? — заботливо спросил Шахов после обычных приветствий.
— Нормально. Как ты? — голос у супружницы глуховатый, будто стесанный ржавым напильником.
— Все в порядке… У Вики прошло горлышко?
— Почти. Денек еще подержим ее дома.
У Шахова с супружницей родились три дочери, старшей было одиннадцать, младшей, забияке Манечке, унаследовавшей сварливый характер тестя, пошел шестой годок. Леонид Иванович старательно играл роль чадолюбивого, заботливого отца, но на самом деле главным чувством, которое он испытывал перед тремя своими расцветающими на глазах пигалицами, было глухое изумление. Он так и не смог ответить себе на вопрос, зачем они появились возле него. Но обязанности строгого, доброго отца выполнял как положено: средняя Полюшка и старшая Вика учились в Англии, в престижном колледже (9 тысяч фунтов за семестр), за год превратились в настоящих маленьких леди, у обеих было двойное гражданство; Манечку они с супружницей собирались отправить в Штаты, уж больно непоседливая и пронырливая, даром что читать и писать научилась в четыре годика. Если кого и ждет большое будущее, так это именно Манечку, в Штатах ей самое место. Супружница шутила: глазом не успеем моргнуть, Маня подрастет, окрутит американского миллионера и вернется управлять какой-нибудь банановой уральской республикой. А что, думал Шахов, шутки шутками, а надо готовиться и к такому развороту событий. Пока же Манечку воспитывали два гувернера — одного выписали из Парижа, другого подобрали на Арбате, умный пожилой еврей со степенью доктора филологических наук, — и еще был к ней приставлен дядька-телохранитель Тарасюк, из бывших зеков. Отмотав в общей сумме четвертак, Гриша Тарасюк ко всем людям относился одинаково благоговейно, понимая, как они исстрадались на воле, предоставленные сами себе, но Манечку выделял особо. Он в ней души не чаял, угождал всем ее капризам и растерзать мог всякого, кто приближался к ней без спроса на непочтительное расстояние. Из оружия Тарасюк признавал только старый сапожный тесак, который всегда держал при себе, и иногда употреблял в качестве зубочистки. Кулачищи у старого зека были с голову теленка. Однако телохранителя Шахов завел отдавая дань моде, для куража, врагов у него, как он полагал, не было. По этой же причине (зачем напрасно спорить с веком) для большой квартиры в Столешниковом переулке приобрел ливрейного лакея, отменной выучки туповатого малого из кремлевской охраны, который, подавая гостю пальто, глубокомысленно бормотал: "Данке шен!", а дамам, если позволяли, церемонно целовал ручку. Надо заметить, многие позволяли, а некоторые сманивали и для дальнейших услуг: стати у лакея Данилы Осиповича были гвардейские.