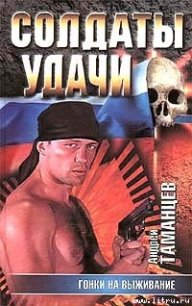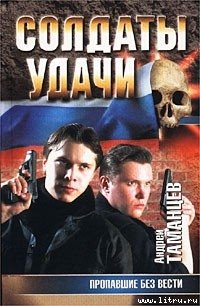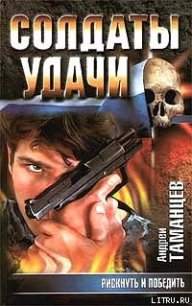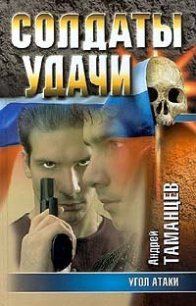Их было семеро… - Таманцев Андрей "Виктор Левашов" (список книг txt) 📗
Его, выходит, ждали? Странно, что им могло от него понадобиться?
— Попался, падла? — обратился к нему высокий. — Опять будешь дуру гнать, что бабки принесешь завтра?
— Обязательно, ребята! — заверил их Муха. — Прямо завтра с утра! Вы где будете? На обычном месте, у расписания?
— Гада! — взревел коротышка. — Ты сколько раз нам это уже говорил? Четыре?
— Пять, — признался Муха. — Но завтра, ребята, железно! Прямо с утра!
— Да он изгиляется над нами, сучонок!
— Боже сохрани! — запротестовал Муха. — Я — над вами? Да вы что?!
— Больше не будет, — проговорил высокий. Своими клешнями он разлепил створки входных дверей и стал в проеме, спиной отжимая одну створку, а ногой придерживая вторую. Кивнул коротышке: — Делай!
Тот отшагнул к противоположной двери и пригнулся, изготовясь к броску.
Я придвинулся поближе к тамбуру.
— Не суйся туда! — предупредил меня какой-то мужик, стоявший рядом.
— Даже не собираюсь, — сказал я.
И я действительно не собирался. Что мне там было делать? Мне просто любопытно было, как все это будет происходить.
Но ничего особенного не произошло.
Коротышка спиной оттолкнулся от двери и бычком ринулся на Муху с очевидным намерением вышибить его из электрички, которая как раз летела по какому-то мосту или виадуку. Не выпуская из руки газет, а другой придерживая сумку с деньгами, Муха увернулся, в нырке упал на спину и словно бы выстрелил обеими ногами в задницу коротышке, придав ему такое ускорение, что тот сначала выбил, как кеглю, из дверного проема высокого, а следом вылетел сам.
Двери закрылись. В электричках они, как известно, закрываются автоматически.
Да, эти двое, похоже, уже никому ничего никогда не смогут объяснить.
Муха отряхнулся и вошел в вагон.
— «Мир новостей»! — объявил он. — Самая полная и объективная информация обо всех важнейших событиях за неделю!..
— Дай-ка мне, парень, твою газету, — прервал его мужик, который остерег меня соваться в тамбур. — Сдается мне, это правильная газета.
— Но самой важной информации в ней нет, — заметил я.
— Какой? — не оглядываясь, спросил Муха. — он отсчитывал мужику сдачу.
— О том, что лейтенант Варпаховский жив. Он повернулся. И газеты, и сдача вывалились у него из рук.
— Нет, — сказал он. — Нет.
— Да, — сказал я. — Да!..
Оставался Трубач. Когда все собрались и мы отъехали от Казанского вокзала, был уже восьмой час вечера. Улицы забиты машинами, тротуары кишат людьми. Мы немного поспорили, куда ехать сначала — на Старый Арбат или на Пушкинскую площадь. Но рассудили, что Трубач сейчас, скорее всего, на Арбате — еще довольно светло, день хороший, на Арбате наверняка толпы гуляющих. Так и было. По обеим сторонам Старого Арбата теснились столики с тысячами деревянных матрешек, художники прохаживались возле своих картин, развешанных по заборам и просто разложенных на земле. Через каждые десять-пятнадцать метров стояли парни с гитарами, а то и маленькие оркестры, у Вахтанговского театра какая-то девушка играла на скрипке. Народ слушал, глазел, освежался пивом и чем покрепче.
Я бы тоже с удовольствием послушал и поглазел, но времени не было. Мы прошли Старый Арбат из конца в конец, однако Трубача не обнаружили. Пришлось ехать на Пушку. Валера приткнул «патрол» у «Макдональдса», мы спустились в переход под Тверской. Здесь Трубача тоже не было. Не было и в вестибюле метро. И только на повороте второго подземного перехода услышали саксофон — ни с каким другим не спутаешь. А потом увидели и самого Трубача.
Он стоял у стены между двумя длинными столами-прилавками, на одном из которых были книги, а на другом разные «Пентхаусы» и «Плейбои»: громоздкий, как шкаф, с крупной, рано начавшей лысеть головой, согнувшись над серебряным саксофоном, — будто свечечку защищал своим телом от ветра. Прикрыв глаза и отбивая такт ногой в кроссовке сорок шестого размера, он играл попурри из старых джазовых мелодий, уходя в импровизации, а затем возвращаясь к основной теме. У ног его лежал раскрытый футляр от инструмента, куда слушатели бросали свои «штуки» и пятисотки. Слушателей было немного, человек пять-шесть, одни уходили, их место занимали другие. Иногда кто-нибудь просил сыграть на заказ, он играл, а потом вновь заводил свое. Ему было словно бы все равно, есть слушатели или нет, платят они или не платят, он даже не видел их. Он играл для себя.
Я остановился у стола с «Плейбоями», разглядывая роскошные формы изображенных на обложках див, но больше прислушиваясь к сакс-баритону Трубача. Заметив это, не слишком молоденькая продавщица, кутавшая плечи в ветровку из-за знобкой сырости, стоявшей в переходе, поинтересовалась:
— Нравится?
— Ничего, — ответил я и подумал, что соло на автомате Калашникова у него все-таки получается намного лучше.
— Он сегодня не в ударе, — объяснила она. — А когда в настроении — такая толпа собирается, что проход закрывают. Но что-то последнее время нечасто такое бывает.
Наметанным своим взглядом она поняла, что я не из тех, кто покупает ее товар, и ей просто хотелось поговорить.
— За место, наверное, приходится отстегивать? — спросил я, демонстрируя тонкое знание современной московской жизни.
Она пожала плечами:
— А что делать?
— А на него наезжали? — кивнул я на Трубача.
— Конечно, наезжали. На всех наезжают.
— И что?
Она как-то странно усмехнулась и ответила:
— Больше не наезжают.
Мы обступили Трубача, вдвое увеличив аудиторию его слушателей. Воспользовавшись паузой, Док бросил в футляр пятитысячную бумажку и попросил:
— Маэстро, «Голубой блюз», если можно.
Трубач сначала рассеянно кивнул, потом быстро поднял голову и сразу нас всех узнал. И тут же как будто забыл о нас. Отбил кроссовкой такта четыре и неожиданно мощно, чисто, свободно вывел первую фразу. Ну, примерно так, как мы палили бы в небо из своих «калашей» в последний день чеченской войны, салютуя своей победе, — если бы этот день наступил, если бы возможна была победа, и если бы мы до нее дожили.
И пошел! И пошел! Словно бы подменили его инструмент. Или его самого. Спешившие по переходу люди с размаху втыкались в толпу, сразу образовавшуюся вокруг Трубача, а те, кто успел проскочить вперед, останавливались и возвращались обратно. Купюры полетели в футляр, как хлопья апрельского снега. Не прекращая игры, Трубач ногой закрыл крышку футляра, но деньги продолжали сыпаться и скоро самого футляра под ними не стало видно.
Минуты через две я сказал себе: нет, с этой серебристой загогулиной он управляется не хуже, пожалуй, чем с «калашом». А еще через минуту поправился: лучше. Хотя, казалось бы, лучше просто не может быть. Может, оказывается. И намного.
Продавщица «Плейбоев» протиснулась сквозь толпу и сказала мне, сияя глазами:
— А что я вам говорила?
На последних тактах Трубач поднялся на такую высоту, что казалось: не хватит ему ни дыхания, на самого сердца. Но серебряный звук его саксофона уходил все выше и выше, как сверхзвуковой истребитель с вертикальным взлетом вонзается в чистое небо, оставляя за собой белый инверсионный след. И где-то там, в стратосфере, во владениях уже не человека, а самого Бога, этот след истончился и исчез.
Все.
Трубач положил саксофон на хлопья денег, перешагнул через него и обнял нас. Всех пятерых сразу. А заодно — случайно, наверное, — и продавщицу «Плейбоев». Только у него могло так получиться.
Вот теперь мы были все вместе.
Я попросил Валеру связаться с полковником Голубковым и сказать, что мы готовы встретиться с ним через час. Ехать в Гольяново было минут тридцать пять — сорок, но я взял небольшую фору, чтобы до встречи с Голубковым успеть поговорить с ребятами. Но уже у подъезда притормозил. Вдруг дошло: эта конспиративная квартира вполне могла прослушиваться. Черт. Как я раньше об этом не подумал! Я постарался вспомнить, не сказал ли чего лишнего. Но, кроме фразы «Ни одному его слову не верю!», ничего не вспомнил. Точно, прослушивалась. И Голубков это знал, поэтому так неопределенно реагировал на мои слова. Значит, Волков в курсе, что я о нем думаю. Да и черт с ним. Но о чем я буду говорить с ребятами — об этом ему знать было необязательно. Поэтому я сказал Валере, что мы перекурим на свежем воздухе. Он кивнул и отогнал машину в сторонку, чтобы не светиться перед подъездом, а мы расположились в глубине двора вокруг стола, на котором местные пенсионеры забивали «козла».