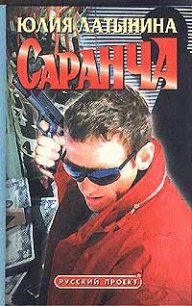Охота на изюбря - Латынина Юлия Леонидовна (список книг .TXT) 📗
Вячеславу Извольскому было всего тридцать четыре года – возраст более чем молодой для единоличного хозяина пятого по величине в мире металлургического комбината и некоронованного диктатора сибирского города с населением в двести тысяч человек.
Пятнадцать лет назад атлетически сложенный, стройный Слава Извольский был героем-любовником всего курса и кандидатом в мастера спорта по боксу. С тех пор привычка к власти, долгие переговоры и перелеты, бесчисленные бумаги и хорошая пища, в которой Извольский никогда себе не отказывал, сыграли с ним дурную шутку. Некогда сухощавое лицо стало розовым и откормленным, как у свинки. Мускулы на плечах превратились в жир; талия изрядно разрослась. Из старенького, обклеенного бумагой зеркала на Славу Извольского глядел упитанный и мордастый хряк весом за центнер. Извольский невольно представил рядом с собой жилистого и сухощавого Черягу и тихо вздохнул.
В кухне была распакована нехитрая снедь, которую Ирина привезла бабе Насте, и на деревянном столике в щербатых тарелках были разложены пошехонский сыр и розовая докторская колбаса. Извольский не видал этой колбасы вот уже лет пять и даже не знал, что она еще существует. Он почему-то думал, что докторская колбаса канула в вечность вместе с продуктовыми заказами, очередями за шпротами и Советским Союзом. Оказывается, СССР умер, а докторская колбаса была еще жива. На плите подергивал свистком чайник, на деревянном столе стояли высокие щербатые чашки без блюдец.
Докторская колбаса оказалась очень вкусной, а чай – горячим и терпким, и Ирина опять что-то говорила, и Извольский ее о чем-то спрашивал и прихлебывал чай, привалившись спиной к стене и закрыв глаза. Он внезапно почувствовал покой и дрему, – совсем не то, что должен чувствовать самец, оставшийся наедине с приглянувшейся ему самкой, и он неожиданно понял, что страшно устал: не за вчера, не за месяц, а годика этак за три-четыре.
Баба Настя и в самом деле куда-то исчезла, – Извольский заметил ее в окно, когда она торопилась прибрать что-то в саду из-за начинающегося дождя. Потом баба Настя вернулась домой, а Извольский с Ириной, наоборот, вышли в сад, и гендиректор побрел по доскам, проложенным между раскисших грядок, пачкая начищенные ботинки и отвороты безукоризненно скроенных брюк. Он совсем забыл, что где-то рядом Москва – ненавистный, страшный ему город, где не было ни одного чиновника, который не продавался, но где купить всех из-за их многочисленности было нельзя. И что час назад он, быть может, сам подписал смертный приговор глупому проворовавшемуся Коле Заславскому.
У Ирины было немного детское лицо, может быть, чуть узковатое, с пухлыми бледными губами и твердым подбородком. По нынешним меркам в нем удивительно не хватало той сексапильности, которая обычно привлекала Извольского. Если бы смолянку с портрета Рокотова нарядить в джинсы и старенькую курточку, она бы как раз оказалась похожа на Ирину, и это была вряд ли случайная аналогия. Молодая преподавательница казалась еще моложе от свойственного интеллигентам невнимания к жизни и искреннего безразличия к проистекающему оттого безденежью.
Только одно до странности противоречило личику смолянки – внимательные серые глаза. Извольский не привык видеть таких внимательных женских глаз, разве что у бухгалтеров. На Извольского глаза почти не смотрели. Время от времени Ирина вскидывала их, встречалась с откровенным и очень оценивающим взглядом директора, и тут же утыкалась носом в землю. Это было непохоже на привычное для Извольского поведение шлюхи и оттого странно возбуждало директора.
Где-то между забором и грядкой Извольский повернул Ирину к себе и начал ее целовать – довольно грубо, напористо, ощущая цепкими пальцами серый влажный свитер, а под свитером – гладкую молодую кожу. Ирина сначала отвечала ему, а потом, когда он полез под свитер, уперлась кулачком в грудь, и когда Извольский выпустил ее, закричала:
– Прекратите!
Извольский растерянно отступил на шаг.
Ирина стояла перед ним, нахохлившаяся, как воробушек, в глазах ее сверкнули злые слезы, она сжала кулачки и закричала:
– Как вы можете, вы так со всеми, да? Вы просто пользуетесь моей беспомощностью! Вы знаете, что я никогда не смогу заплатить за эту вашу машину! Вы знаете, что я слова не скажу, что я дрожать буду!
Извольский стоял как оплеванный. По правде говоря, именно что-то в этом роде он и думал, и теперь он видел себя со стороны – большой толстый хам на раскисшей грядке, человек, который забыл, как звучит слово «нет» и за которым побежит любая ахтарская шлюха, и московская, и даже американская шлюха – а вот чтобы наткнуться на ту, которая не шлюха, надо было разбить тачку, потому что не шлюх вокруг давно не попадалось.
Ира еще что-то прокричала, жалобно, как сойка, Извольский повесил голову и вдруг сказал:
– Извините.
Прошел по доскам до калитки, сел в «Сааб» и уехал.
На обратном пути он заблудился в дачных закоулках, выскочил почему-то в конце концов не на Калужское, а на Киевское шоссе и приехал в офис в два часа дня, рассерженный и в мокрых ботинках. Неклясову за результаты встречи достался изрядный и не совсем заслуженный втык: не мог же, в самом деле, Димочка Неклясов добиться от оголодавшего правительства уверений в отмене экспортных пошлин?
В гостиницу «Лада» Черяга едва успел. Воображение уже рисовало ему перспективы разбирательства с ГАИ по поводу кучи побитых машин, и с души его свалился солидный камень, когда он увидел, что очередной автозабег директора кончился довольно мирно. Встреча с Ковалем просто вылетела из его головы, что было, конечно, крайне невежливо и чревато осложнениями.
Тем не менее было всего пять минут первого, когда Черяга вошел в вестибюль «Лады» – одной из любимых точек Коваля, где у него на третьем этаже было что-то вроде неформального офиса.
Его почтительно провели в ресторан, где в пустынном и полутемном зале патриарх вкушал скромный ленч из сваренного вкрутую яичка. Черяга сел за покрытый скатертью стол напротив Коваля, а двое бычков застыли статуями по углам ресторана.
– Твой Лось упорол крутой косяк, – сказал Черяга.
– Я тебя слушаю, Денис Федорович.
– Я вчера спрашивал о Заславском?
– Ну.
– Заславский с Лосем делали свой гешефт на наших деньгах. Потом Заславский Лосю надоел, Лось его сунул в мешок и теперь просит у нас выкуп. Грузином прикидывается.
Король покачал головой.
– Как нехорошо, – сказал он, – а может, это и вправду грузины?
– Мы пленку в институт на анализ отдали, – спокойно соврал Черяга, – не грузины.
Король покачал головой.
– Что я тебе скажу, Денис Федорыч, – развел руками Король, – каждый зарабатывает на хлеб как умеет. Если Лось получит за Заславского деньги – это будет его бизнес, если ты получишь Заславского без денег – это будет твой бизнес.
– Вы могли бы приказать Лосю, – сказал Черяга.
– Что ты говоришь, дорогой? Лось взял себе человека. Что я должен сделать? Позвонить ему и сказать: «Ты поступил неправильно, людей красть нельзя?» А потом ко мне придет торговец с рынка и скажет: «Лось на меня наехал». Что я должен сделать? Позвонить Лосю и сказать: «Как тебе не стыдно ставить людей на бабки?» А? Я кто? Я вор или учитель в воскресной школе?
Черяга молчал.
– Мы ведь тебе не ставили крышу, Денис Федорыч? Если бы ты пришел и сказал: «Я плачу вам за крышу, а вы украли моего бизнесмена». Вот тогда бы Лось офоршмачился. Но ты не платишь за крышу. И тебя никто не просил платить за крышу. И хотя тебя никто не просил, я пошел тебе навстречу. Я послал с тобой людей, я позволил тебе расспрашивать кого хочешь. Я тебя на Лося навел.
Это Лось мне может позвонить и сказать: «Ты что делаешь? Ты меня фраеру сдал! Это как, по понятиям?»
Денис встал.
– Ну что ж, – сказал он Ковалю, – посмотрим, на чьей стороне будет удача.
О том, что Сляб категорически отказался платить за Заславского деньги, Денис, разумеется, говорить не стал. Незачем отягощать противника лишней информацией.